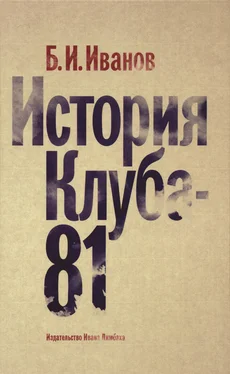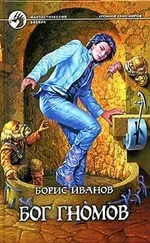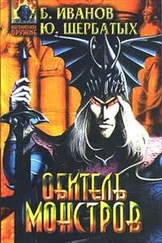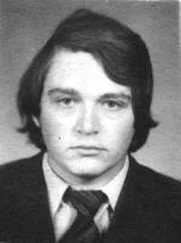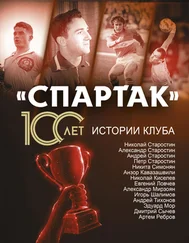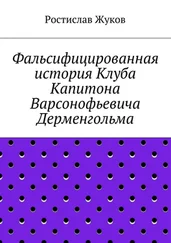Насущной экзистенциальной потребностью конца 1970-х годов и было избавление от страха. Скорее всего, именно это стало важнейшей причиной возникновения и популярности Клуба-81. Эту эпоху и начало перестройки Борис Иванов сравнивает с Реформацией в Европе. Открытость культуры обществу можно сравнить с доступностью Библии, переведенной Лютером. Утрата коммунистической идеологией и аппаратом насилия монополии на политическую и культурную жизнь сопоставима с крушением всевластия католицизма и инквизиции. Необычайное распространение всяческих предрассудков и мракобесия как реакция на открытость Протестантской церкви сходно с популярностью мистики и разных оккультных учений и практик в последние годы советской власти: « Вчера „на чердаке“ было отчетное собрание. Еще не все собрались, когда кто-то сказал: „Савелия Низовского отвезли в больницу: у него после тяжелого разговора в «Детгизе» случился инфаркт“. Андреев: „Товарищу нужно помочь… (Как?) Всех, кто готов участвовать в спиритическом сеансе, прошу собраться в одном месте“. Все взволнованы и заинтригованы. Андреев продолжает: „Внимание!.. Все начинаем думать только о Савелии и о нашем желании ему помочь, закроем глаза, – он там, на высокой горе, мы видим его… мы обо всем забыли… думаем только о нем… тихо, мы сконцентрировались… А теперь посылаем ему свою волю, энергию…“». Напомню, что Савелий Низовский – член Клуба-81, а Юрий Андреев – представитель Союза писателей и КГБ, курировавший клуб. Итак, в среду интеллигентов приходит человек из органов и предлагает «посылать энергию товарищу», которому «нужно помочь». И все соглашаются. И спиритический сеанс состоялся! Какое непредсказуемое было время!
Главный результат существования клуба не был заранее угадан и самим Борисом Ивановым. Еще в 1973 году он так определял задачу неофициальной культуры: «Освобождение индивидов от авторитарного типа мышления, от иерархически организованных отношений, осознание своего места в судьбе человечества, определение своей позиции, открытой нерегламентированному содержанию, полагая его своим правом и началом своей этики». В сочетании с «Не бойтесь!» и регулярными собраниями, выборами правления, развившейся культурой дискуссии это дало фантастический результат: многие члены Клуба-81 в конечном итоге превратились в по-настоящему ответственных и свободных граждан, ответственных и свободных нравственно, эстетически и политически. Сам же клуб стал зерном гражданского общества, первой, пробной и во многом по сей день образцовой общественной организацией. Недаром именно в Клуб-81 потянулись под конец его существования экологические, культурные, политические объединения демократической ориентации. Во второй половине воспоминаний мы наблюдаем, как ширится резонанс деятельности клуба: неофициальная культура Ленинграда – почти весь Ленинград – Москва – вся страна. И в конце 1980-х клуб как бы незаметно исчезает в лавине других общественных движений и организаций эпохи перестройки. Он исчезает, сделав свое дело, изменив нравственный и культурный облик жизни города и во многом – страны.
Прочитав почти любые воспоминания, мы задаемся вопросом: а что же все-таки для нас сейчас важнее и просто интереснее – описанные события, участником или свидетелем которых был автор, или личность самого автора? В случае с книгой Бориса Иванова трудно ответить на этот вопрос, настолько пути его внутренней и внешней жизни переплелись с историей клуба. Да, Иванов не был единственным создателем, воспитателем и руководителем, наоборот, с самого начала основу работы он видел в коллегиальности, выборности, открытости, и именно так клуб и жил. Но не зря прозвище Бориса Иванова было Акела – вожак волчьей стаи из «Маугли». Без него, конечно, никакого клуба не было бы. Мы уже говорили о недоверчивости и воинствующем индивидуализме ленинградских независимых авторов 1970-х годов. Переломить их могла только совершенно особенная личность – человек другой эпохи .
В упомянутом в книге докладе Бориса Останина и Александра Кобака «Молния и радуга. Пути культуры 1960–1980-х годов» проводится типологическое различие между настроениями разных эпох. Иванов так передает его основную идею: « Шестидесятые годы мыслились выстроенные осевым событием, эмоциональными взрывами, подвигами лидеров, создателями новых форм, их эмблематический образ – молния. Восьмидесятые – это энциклопедизм, историзм, интеллектуализм, цитатность, профессионализм, имперсонализм, эклектика, деидеологизация, игровая ориентация, прикладные формы, теория малых дел, эстетизм, гедонизм, примирение…» В итоге, считали авторы, «образ радуги как эмблема мирного соседства красок всего спектра верно передает дух восьмидесятых годов». К этому следует прибавить, что промежуточные 1970-е, «средние века» были ближе к «радуге», только более острые и агрессивные – постмодернистские «имперсонализм» и «примирение» не очень-то были им свойственны. Клуб-81, в который входили и который посещали почти сплошь «люди радуги» и 1970-х годов, был все же создан «подвигом лидера» – человека эпохи «молнии».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу