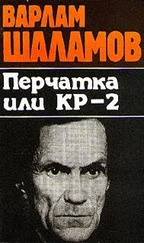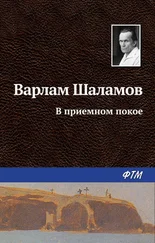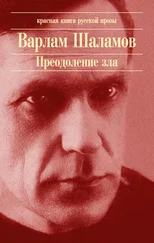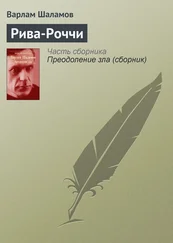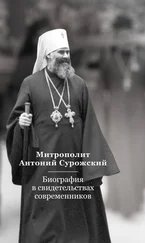– Если я сказал «4», значит, 4 и было, – ответил Шаламов, – во всем, что я написал, все было так, как описано.
Константин спросил у Шаламова, как он относится к «Доктору Живаго».
Снова был краткий и безынтонационный ответ:
– «Охранная грамота», «Детство Люверс», «Повесть» – гениальные произведения. Такая проза бывает один раз в двести лет.
Эти три момента на вечере с Шаламовым я привожу потому, что они, на мой взгляд, свидетельствуют, что Шаламов, несмотря на несколько преувеличенное отношение к своим стихам, давно и хорошо сознавал, чего он добивался в своей прозе.
Начиная с 1965 года, мне приходилось слышать от весьма вдумчивых людей, хорошо знающих словесное искусство, что проза Шаламова – это просто «фактографические вещи», чуть ли не «очерки». Я старался доказывать им, что за такой «фактографической прозой» стоит большой Поэт и большой Художник, что почти каждая его вещь пронизана специфически-поэтическим видением и мышлением большого мастера, – пронизана, как мощным светом, без какой-либо спекулятивной туманности. (Вспомним хотя бы его любимый стланик, уже не ветками, а трагическими лучами прорастающий сквозь все его творчество; вспомним графит, которым отмечены не только зарубки на деревьях и бирки на ногах покойных зеков, но уже и наши души, и наша память, и наше изменившееся представление об «эстетическом»...)
Один из моих друзей полностью согласился с моими мнениями о Шаламове-художнике лишь после 17-летнего спора, когда он в едином большом томе прочел все колымские рассказы, – прав оказался Варлам Тихонович, когда он трагически протестовал против разрозненных публикаций его произведений.
Первым об этой трагичности сказал Михаил Геллер, которому русская литература обязана бережным и наиболее полным изданием прозы Шаламова. Из литературных исследователей самую достойную оценку произведениям Варлама Шаламова, по моему мнению, дал до сих пор только Андрей Синявский в потрясающем выступлении по радио летом 1981 года.
Думая о прозе Шаламова, я вспоминал одно из моих давних впечатлений от Кафки. Случилось так, что с самыми первыми его рассказами я познакомился уже после того, когда прочел все, что было издано из его произведений (включая письма, «Дневники») во французском переводе. Сперва я был разочарован этими рассказами, столь явно проглядывали в них искусственные, «гофмановские» приемы, – ранний Кафка «вымучивал» свои вещи, чтобы передать нечто «мистически»-существенное.
Однако, именно эти ранние вещи писателя «показали» мне, с каким огромным мучительным трудом Кафка пришел к простоте нового языка, к чуду этой простоты, творившей самые таинственные и самые существенные произведения эпохи.
Думаю, что такой простоты по-своему добился и Варлам Шаламов. Ни в чьем творчестве трагическое в новейшей истории народа не выражено языком, соответствующим высоте этого трагического так, как в великом Томе автора «колымских рассказов».
В течение вечера, проведенного с Варламом Тихоновичем, несколько раз приходило мне в голову известное изречение об «умерших для жизни при жизни». И я весь был поглощен наблюдением за художником-Шаламовым. Дальнейшее показало, что поэт, даже «Вышедший-из-Ада», остается с одной слабостью: живое в нем есть – по отношению к Поэзии. Я сказал Варламу Тихоновичу, что у меня есть стихотворение, посвященное ему. Этим он живо заинтересовался. Сразу же предупредив, что «наши встречи необязательны», он сказал, что за стихотворением для него обратится ко мне его знакомая И. С. [Ирина Сиротинская – прим. автора]. Живой интерес Варлама Тихоновича к обещанному стихотворению продолжался, – я не мог сразу же встретиться с И. С., и она мне звонила несколько раз: «Варлам Тихонович снова напоминает». Я хотел, чтобы мое стихотворение, посвященное Шаламову, было прочтено им среди ряда других моих вещей, – так сказать, в контексте моей поэтики, – все же, весьма отличавшейся от тогдашнего «общепринятого» поэтического языка.
После получения машинописной книги моих стихов ответ Шаламова был очень быстрым. Он передал мне через И. С. свой стихотворный сборник «Дорога и судьба» с дарственной надписью: «Поэту Геннадию Лисину (моя старая фамилия – Г. А.) с глубокой симпатией. Я не верю в свободный стих, но в поэзию – верю! В. Шаламов. Москва. Январь 1968».
Недосказанное в надписи было сообщено мне, от имени автора, при встрече с И. С.: «Я не верю в свободный стих. Никогда не думал, что это может быть поэзией, – раза два повторил Шаламов, – но странно: вот, свободные стихи – а настоящая поэзия».
Читать дальше