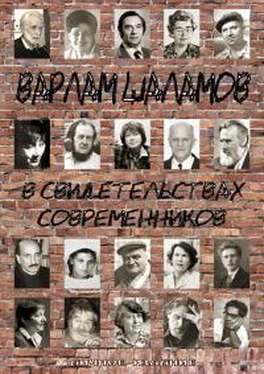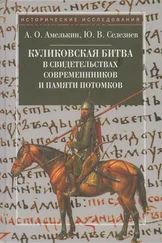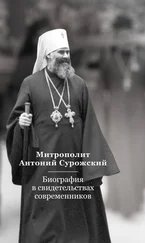Д.Г. И черновик остался?
И.С. Да, остался.
Д.Г. И он был еще резче?
НС. Да, еще резче. Черновик был даже не один. К тому же он написал историю своего письма в «Литературную газету». Это было в феврале 72-го года, кажется, 23 февраля. Он написал его в крайнем раздражении. Надо сказать, что тут же принесли с курьером верстку.
Д.Г. Принесли верстку письма или книги?
И.С. Письма. И он мне говорит, что-то со стихами они так не торопятся, а вот письмо...
Д.Г. Так что письмо – это была та цена, которую он заплатил за книжку?
И:С. За возможность печататься.
Д.Г. Но он пошел дальше, чем обязан был?
И.С. Да, безусловно. Я вот за это себя и корю, что мне надо было остаться и вычеркнуть побольше. Я не ходила к нему целую неделю, потом он позвонил, попросил прийти, и, когда я пришла, он буквально рыдал.
Д.Г. Жалел?
И.С. Не то чтобы жалел. Он просто плакал и говорил, что он не такой, каким я его считала, что он свалился в яму, написав письмо. Но кто мог осудить этого человека? Это, в конце концов, его право.
Д.Г. Но я знаю человека, у которого висел портрет Шаламова в его квартире, а после этого он портрет снял. И на Западе была реакция.
И.С. К нему приходили, пытаясь поддержать. Столярова Наталья Ивановна, Федот Федотович Сучков, автор его скульптурного портрета, Евгений Борисович Пастернак. Но он просто всех выгонял. Он писал, находясь в состоянии аффекта. Но через две недели, когда я пришла, он уже реабилитировал себя в собственных глазах и стал говорить, что для этого поступка требуется гораздо больше мужества, чем если бы он ничего не писал.
Д.Г. Значит, он предал свои рассказы?
И.С. Но главное, что он продолжал писать, писал «Колымские рассказы-2», по фону еще более мрачные, чем первые. В первых присутствует еще сильная личность автора, пережившего все, а эти были очень безрадостные. Например, «Перчатка», «Афинские ночи», опубликованные в «Новом мире». Он писал их до 73-го года. И тогда же он написал стихи «Славянская клятва» «Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам». Имея в виду всю эту камарилью. Он на самом деле не отрекся от своих «Колымских рассказов». Но он не такой человек, чтобы раскаиваться. Он должен был сделать усилие и осознать себя правым. И после этого письма начался процесс распада личности.
Д.Г. Физического распада?
И.С. И физического, и вообще распада личности. В 73-м году он писал, что это хороший год в его жизни – много написал стихов и прозы. Но этого хватило ненадолго. Это было тяжелое зрелище, страшнее смерти. Здоровье стало ухудшаться, он стал хуже видеть, обострилась болезнь Миньера. В 79-м году Литфонд устроил его в дом для престарелых. Я его там навещала. Он очень не хотел туда ехать, но я не могла его содержать, у меня было трое детей. Он даже хотел вернуться к первой жене и просил меня ей позвонить. Я позвонила, но она сказала, что у нее был недавно инсульт. Я позвонила дочке Лене, но та сказала: «Я не знаю этого человека».
Я приходила в дом престарелых, он диктовал стихи, воспоминания. Стихи часто диктовал из «Колымских тетрадей». Видимо, он опять почувствовал себя, как в лагере. Он, например, повязывал полотенце на шею, как шарф, чтобы не украли. Тщательно считал приносимые яблоки, вел учет, чтобы не украли. Я спрашивала, как дела. И он говорил, что, в общем, хорошо, хорошо кормят.
Д.Г. Где этот дом?
И.С. Это у метро Планерная, улица Лациса. Там такие четырехэтажные корпуса, и его комната была 244. Сначала в комнате с ним жил какой-то то ли генерал, то ли прокурор, старичок, потом его удалили, и у Шаламова была отдельная комната. Я приходила, он лежал, сжавшись в комок, потом уже ничего не видел. Узнавая меня по руке, вставал, усаживался на стул и диктовал стихи.
Д.Г. Когда он ослеп?
И.С. Когда его поместили в дом престарелых. Там все это стало прогрессировать. Его отец ослеп из-за глаукомы. Туда, в этот дом, я принесла ему лондонскую книжку, вышедшую в 78-м году. Он посмотрел, потрогал, увидел, что толстая книжка, и спросил: «А деньги где?». Я сказала, что денег нет. Деньги для него означали независимость. Были бы деньги, можно было бы нанять сиделку. Это все стоит дорого.
[...] По его просьбе я предложила стихи в журнал «Юность», и вышла публикация в номере восемь. Он очень радовался, дарил всем экземпляры.
Последний раз я его видела в январе 82-го года, когда пришла поздравить с Новым годом, чего-то принесла. Все было так же, он узнал меня по руке, сел, продиктовал стихи. Все, как всегда, так что я даже не встревожилась, а его, оказывается, 15 января перевели в другой интернат – для психохроников, и 17 его не стало. Конечно, потрясение, простуда. Мне позвонили и сказали, что он умер.
Читать дальше