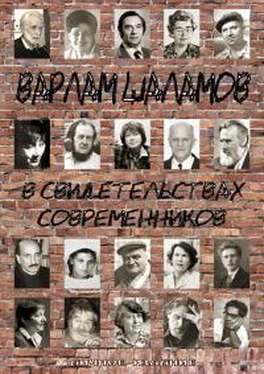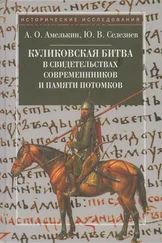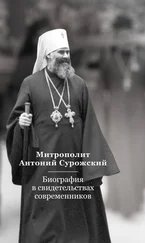Ирина Сиротинская: Да, очень недоволен, он был просто в бешенстве. Гуль печатал его аптекарскими дозами. Первую книгу Варлам Тихонович отправил на Запад через Надежду Яковлевну Мандельштам. Насколько я знаю, это была единственная попытка публикации, предпринятая с его ведома. Но Шаламова очень разочаровало то, что сделали с его первой рукописью. Он ждал, что его издадут отдельным томом, что будет удар, резонанс, а из-за публикации маленькими дозами исчез эффект. Позже он счел, что Запад его не оценил, и перестал поддерживать отношения с западными корреспондентами. Так что все последующие публикации были взяты из «самиздата».
Д.Г. Журнал «Грани»...
И.С. Да, да, это уже пересылали разные люди, а он об этом и не знал. С ним обращались, как с покойником. И это его не устраивало. Вообще это был человек окончательных решений.
[...] Я познакомилась с Галиной Игнатьевной, когда собирала архив Варлама Тихоновича.
Д.Г. Она жива?
И.С. Нет, она умерла в году 84-м.
Д.Г. Она вам отдала архив?
И.С. Нет, к сожалению, она уничтожила его письма с Колымы. Я к ней пришла именно за тем, чтобы попросить колымские письма. Как раз в это время (1966 год) Варлам Тихонович отдал нам свой архив. Там были письма Галины Игнатьевны, и я, не ссылаясь на него, сама ей позвонила. Она дала мне кое-какие фотографии, еще кое-что, но письма были уничтожены. Это, конечно, большая потеря, хотя ничего особенного он ей писать из-за цензуры не мог.
[...] Познакомились мы в марте 66-го года. Я прочитала его рассказы в «самиздате», это было духовным потрясением. К тому времени, в 1965 году, он развелся уже с Ольгой Сергеевной. Нельзя даже сказать, что кто-то был виноват, просто два писателя в одной, тем более маленькой квартире – это слишком много. Жизнь не сложилась, хотя он очень хорошо относился к Ольге Сергеевне. Он получил комнату в том же доме, этажом выше и с 66-го года писал, что называется, на моих глазах. Он говорил, что в нем что-то клокочет и ему надо высказаться. Я была слушателем благодарным, понимала его место и в литературе, и в жизни и относилась к нему... даже трудно слова подобрать... и он это, конечно, чувствовал. Он говорил, что, может быть, не писал бы дальше цикл «Колымских рассказов», если бы не было такого слушателя. Даже посвятил мне цикл «Воскрешение лиственницы». Я обычно о чем-то спрашивала, он рассказывал, рассказывал, а в другой раз, когда я приходила, уже были написаны рассказы. Писал, конечно, он один, но какой-то первый эмоциональный толчок давали наши беседы. Вот «Четвертая Вологда»... Буквально при мне написана. Многие другие поздние рассказы.
[...] Он говорил: «Все думают, что я очень сложный, а я простой, моя мораль элементарна». Но попробуйте жить по элементарной морали, то есть не лжесвидетельствуй, ни в малом, ни в большом, не укради, не убий... И этой элементарной моралью он никогда не поступался. Он почти никого не подпускал к себе близко, и большая часть его знакомств заканчивалась тем, что он спускал человека с лестницы.
Но, тут, наверное, надо сказать и о письме 72-го года. Многие строят догадки, а это все происходило на моих глазах. Он говорил, что письмо следует расценить, как пощечину всем тем, кто спекулирует на чужой крови. Это были наши некоторые диссиденты, которые хотели из него сделать знамя, идола, святыню. Он говорил: «Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН. Ты сам прыгай в яму, а не толкай другого». Он был против использования его имени помимо его воли. Он все-таки прежде всего считал свои рассказы искусством. Не политическим актом, а искусством. Из них же пытались сделать политический акт. И это ему не нравилось.
Д.Г. Но нельзя же отрицать политический элемент, это смешно.
И.С. Но использовать эти рассказы только в политических целях – это сводить на нет их художественное воздействие. Он считал, что так не должно быть. Его рассказы имеют политическое значение, но в то же время это – постижение мира средствами искусства, это – откровение души. И последняя отдушина, которая у него была, это публикация стихов. А все эти «Посевы», которые он упоминал, и радио «Свобода» перекрывали ему последние возможности публикации здесь. Книжка «Московские облака» долго не выходила, он метался по издательству, пытаясь выяснить, в чем дело, в конце концов, нашлась добрая душа, которая сообщила, что надо писать письмо, без этого публиковать не будут. То есть ему перекрывался последний выход, и он должен был вообще просто лечь в могилу. Здоровье его было на исходе, он не годился для политической борьбы, это не Солженицын, который был здоров физически и значительно моложе Шаламова. Письмо он написал сам. Говорят, что его принудили к этому, но на него насилием невозможно было воздействовать. Это были его собственные слова, я видела черновик письма, он пригласил меня и показал черновик. Я ему, правда, сказала, что это не надо посылать, я чувствовала, что этого не надо делать. Шаламов мне сказал (он меня «Красной Шапочкой» звал): «Ты – Красная Шапочка и в мире волков ничего не понимаешь». Я обиделась и ушла, а надо было остаться. Я стала уже вычеркивать отдельные фразы, и он их не оставил. Надо было бы еще немножко вычеркнуть...
Читать дальше