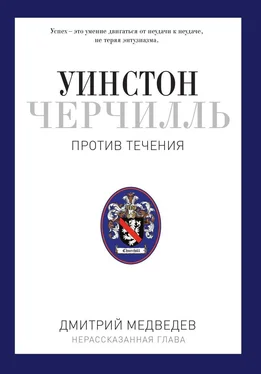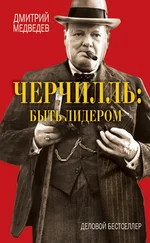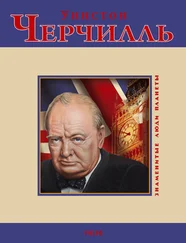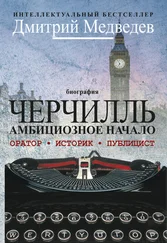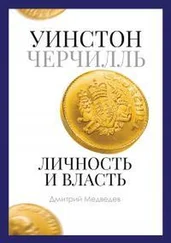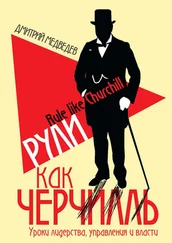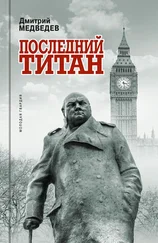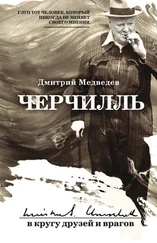Но вопросы, которые поднял Черчилль, оказались сложнее приведенного выше мнения философа. Да и сам его ответ требует пояснений. Наиболее известным выразителем теории доминирующей личности, питаемой и сжигаемой «волей к власти», стал немецкий мыслитель Фридрих Ницше (1844–1900). В его понимании «сверхчеловек» является следующим этапом развития человека. К таким сверхлюдям он относил и упоминаемого выше Юлия Цезаря, и так почитаемого Черчиллем Наполеона.
В XX веке Ницше и его теории о сверхчеловеке, «воле к власти», «философствовании молотом» и «толкании падающего» подвергнутся испытанию и переоценке. В нем увидят предтечу нацизма и апологета ужасов, захлестнувших мир в кровавом столетии. Но речь сейчас не об отшельнике из Сильс-Марии и не об ошибочных трактовках его воззрений. Важным было то, что аналогичные идеи о превосходстве индивидуального начала, о социальной стратификации, о ненависти к демосу высказывались задолго до Ницше. Ими была пропитана вся многовековая история философии и литературы. Их можно найти у Гомера (VIII век до н. э.), в египетской мифологии и у греческих философов: у нежелающего считаться с мнением сограждан Мимнерма (VII век до н. э.), у противопоставляющего себя плебсу Гекатея Милетского (550–476 до н. э.), у Гераклита (535–475 до н. э.) с его «многие — плохи», у требующего от граждан неповторимости Фемистокла (524–459 до н. э.), у «ненавидящего непросвещенную чернь» Анаксагора (510–428 до н. э.), у считавшего «человека мерой всех вещей» Протагора (490–411 до н. э.), у презирающего массу Аристофана (446–386 до н. э.), у Платона (428/427-348/347 до н. э.) с его учением об иерархии. «Если же ты ищешь царства хороших законов, то прежде всего увидишь, что в таком случае для граждан издают законы опытнейшие люди; затем благородные будут держать в повиновении простых, благородные же будут заседать в Совете, обсуждая дела государства», — наставляет «Афинская полития» {36} 36 Перевод С. И. Радцига.
. Эти же идеи неоднократно высказывались и в дальнейшем, в том числе и в XIX веке: Гёте, Достоевским, Шеллингом (1775–1854), Бальзаком (1799–1850), Байроном (1788–1824), который словами своего героя Манфреда заявил: «Я со стадом мешаться не хотел» {37} 37 Перевод И. А. Бунина.
. Нельзя не вспомнить и популярные строки Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) из знаменитого стихотворения 1823 года:
И взор я бросил на людей,
Увидел их надменных, низких,
Жестоких ветреных судей,
Глупцов, всегда злодейству близких.
Пред боязливой их толпой,
Жестокой, суетной, холодной,
Смешон глас правды благородный,
Напрасен опыт вековой. <���…>
Но готов ли мир к верховенству сверхчеловека, не в сфере творчества, а в области действия? Разве их было мало в истории? И к чему все это привело: непрекращающиеся войны, многочисленные революции, поругание одних идей и порабощение другими. Насколько далеко готов зайти человек, если отбросит костыли морали и примется направо и налево кроить мир по подобию своего субъективного мировоззрения и ограниченного восприятия? Задумывался ли Черчилль над этими вопросами? Наверняка. И у него перед глазами был ответ в виде Первой мировой войны. Этот ответ ему указывал на то, что власть человека над событиями — опасная химера. Мир слишком сложен, чтобы стать марионеткой в руках одного, пусть даже выдающегося человека. Над какой бы областью ни простерлась человеческая длань, всегда есть темная зона недопонимания и незнания. И чем больше амбиции, тем больше темная зона и тем масштабней несчастья, которые угрожают обществу.
Поэтому, задаваясь в «Мировом кризисе» вопросом о том, насколько «правители Германии, Австрии и Италии, Франции, России или Британии» были виноваты в развязывании войны, Черчилль дает однозначный ответ: «Начав изучать причины Великой войны, сталкиваешься с тем, что политики весьма несовершенно контролируют судьбы мира». Даже самые талантливые отличаются «ограниченностью мышления», в то время как «масштабные проблемы», с которыми им приходится иметь дело и к решению которых они подключаются из-за своей занятости лишь урывками, «выходят за рамки их понимания», эти проблемы «обширны и насыщены деталями», а также «постоянно меняют свои свойства» [725] См.: Черчилль У.С. Мировой кризис. Часть I 1911–1914 годы. С. 18–19; Churchill W.S. The World Crisis. Vol. 1. P. 13; См.: также о том, что «неумолимые силы побуждали правителей стран к войне, и все покорно шли за колесницей судьбы». Черчилль У.С. Указ. соч. Часть III 1916–1918 годы. Книга 1. С. 207.
. Среди прочего, Первая мировая война — эта «кровавая неразбериха» [726] См.: Там же. С. 7.
, в которой «все непостижимо» [727] См.: Там же. С. 242.
, — стала потому из ряда вон выходящим явлением, что в отличие от многих драматических событий прошлого она «не имела повелителя». «Ни один человек не мог соответствовать ее огромным и новым проблемам; никакая человеческая власть не могла управлять ее ураганами; ни один взгляд не мог проникнуть за облака пыли от ее смерчей» [728] См.: Там же. С. 22.
. Великая война с ее масштабами событий, «выходящих за пределы человеческих способностей», «измотала и отвергла лидеров во всех сферах с такой же расточительностью, с какой она растранжирила жизни рядовых солдат» [729] См.: Там же. С. 242, 20.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу