Хирургу Ивану Сергеевичу Василенко посвящаю
Говорят, не родись красивым, а родись счастливым. Не знаю, возможно, это кому-нибудь и помогало, а мне за то, что родился счастливым, доставалось всю жизнь как куцему на высоком перелазе. А ведь самое грустное, говоря вот так, я не шучу и не преувеличиваю.
Родился я — как и полагается счастливым — «в рубашке». Помогал мне появиться на свет фельдшер, у которого от старости тряслись руки, плохо видели глаза. Он очень опасался за жизнь моей мамы, и, когда все обошлось хорошо, когда я уже орал во всю глотку, возвещая миру о своем появлении, он вытер со лба тяжелые капли пота, опрокинул в себя кринку холодного молока и сказал роженице:
— Похоже, счастливый он у тебя будет. Видно, доля твоя проснулась.
Был это 1925 год. Церковь у нас к тому времени превратили в клуб «Красный пахарь», приходский священник остриг свои патлы и преподавал в школе химию, в село пригнали первые трескучие тракторы и организовали коммуну, а фельдшера, старика с ласковыми глазами, принявшего в свои руки по деревням многие сотни младенцев, по-прежнему считали чем-то вроде колдуна, прорицателя. Искренне верили, что он может не только предугадать судьбу новорожденного, но и ублажить ее. Вот поэтому на другой день после моего рождения наши соседи узнали о словах фельдшера и сказали:
— Привалило Завражиным, привалило.
— Это Насте за доброе сердце. За долгое терпение да за страдания.
Шаркая лаптями по земляному полу, крестясь, мужики и бабы подходили к люльке и смотрели на меня, как на самородок золота, который достался кому-то другому. А когда мама жаловалась соседкам, что уж очень я беспокойный, ору ночи напролет, те говорили ей:
— Пущай кричит. Ему можно — он счастливый. И я накричал себе грыжу, которая довольно скоро пропала. Это тоже расценивалось как признак счастливости.
Мама моя была болезненной женщиной, но после того как родился я — четвертый, — хворь от нее отвалилась. Мама пошла на поправку. Раздобрела.
Я сейчас, как врач, конечно, смог бы маме научно объяснить перемены в ее здоровье, а она тогда по-своему это истолковала и приговаривала надо мной:
— Счастливчик ты мой, долюшка ты моя…
Когда подрос, мальчишки обо мне говорили:
— Везучий, гад. Удачливый.
Мне и в самом деле везло. На рыбалке никто больше меня не налавливал рыбы. Самый крупный линь или окунь всегда сидел на моем крючке. Везло мне и в орлянку, и нырять я мог дальше других, и болезни меня не брали.
Среди мальчишек, как и среди взрослых, хватает завистников, и они относились ко мне так, будто я был виноват в чем-то перед ними, будто обворовываю их. А если еще прибавить, что я любил хвастаться своими удачами, был скуповатым, прижимистым парнишкой, то станет ясно, почему меня не любили наши деревенские мальчишки и всякий раз, когда выдавался даже незначительный повод, не прочь были меня отвалтузить. Бивали частенько и основательно.
В 1942 году к нашей деревне подходили немцы. Мы, десятеро парней, пришли в сельсовет и просили нас направить в партизанский отряд. Председатель же велел нам разойтись по домам и прятаться от фашистов. Мы не захотели расходиться и пошли в лес отыскивать партизан.
Два дня бродили по лесам, лазили по болотам. На третий день вышли на дорогу, по которой двигались наши войска, выходившие из окружения.
Мы разыскали командира, просили принять нас в полк. Он отказался. Мол, рановато. Молоды, мол.
Во время разговора началась бомбежка.
Девять моих товарищей погибли, а меня даже не царапнуло. Понятно, я остался в живых случайно, но когда вернулся в деревню и рассказал о случившемся, кто-то уронил за моей спиной:
— Везучий, гад!
Два месяца я продолжал искать партизанский отряд по лесам и болотам. Голодал до головокружений. Меня заедали комары. Я замерзал под дождями, боясь развести костер.
Потом вернулись наши.
В деревне моим девятерым товарищам поставили памятник. Ими гордятся сельчане, называют героями, а меня после войны часто вызывали в разные органы как человека, два месяца прожившего «на оккупированной врагом территории».
Читать дальше
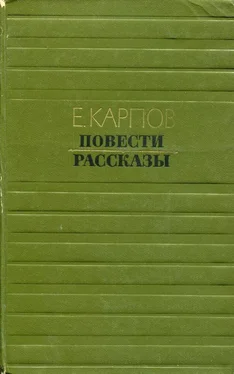


![Евгений Лукин - Петлистые времена [Повести. Рассказы]](/books/26006/evgenij-lukin-petlistye-vremena-povesti-rasskazy-thumb.webp)

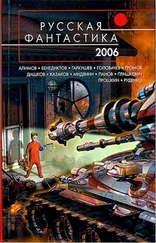





![Геннадий Карпов - Шёл я как-то раз… [Повести и рассказы]](/books/435900/gennadij-karpov-shel-ya-kak-thumb.webp)


