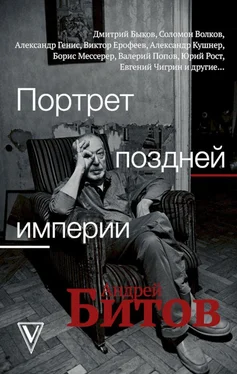— Хочешь, провожу? — предложил я. − Самым коротким путем.
Подразумевался маршрут по переулкам, в точности повторяющим Бульварное кольцо, не слишком известный даже коренным москвичам.
От Цветного бульвара мы взошли по московским холмам до Каретного ряда, затем поднялись до Малой Дмитровки и в итоге еще одним переулком вышли прямо к подножью Зала Чайковского.
Андрей был явно доволен нашим внезапным походом. Он любил открывать для себя незнакомую Москву, попадая, по его выражению, из «одного ее кармана в другой». Под «карманами» имелись в виду чудом сохранившиеся старомосковские уголки.
В качестве их знатока, московского пешехода и «муравья», я, видимо, вырос в битовских глазах. Потому что вновь между нами завязалась непредсказуемая беседа с воспоминаниями и ассоциациями сердечного свойства, такая, во время которой как будто бы даже потерялся смысл нашего похода. Он превратился почти в самоценную душевнейшую прогулку.
Мы, однако, вовремя пришли к месту назначения. Я выполнил свою миссию почтительного провожатого, невольного экскурсовода. А может (хотелось надеяться), и верного друга, чему я больше никогда так и не получил подтверждения.
Дожив до преклонного возраста, я до сих пор иногда жалею, что так и не оказался с Андреем Георгиевичем Битовым по-настоящему близок. Не было мне написано на роду. Хотя, впрочем, может оно и к лучшему. Короткая дружба неизбежно упрощает отношения, вместе с пафосом отменяет и сокровенное трепетное почтение.
Ну, обрел бы я право утверждать, подобно известному персонажу, что с Битовым я «на дружеской ноге». Зато, чего доброго, утратил бы право считать дорогими, любимыми, лично мне предназначенными шедеврами и «Дверь», и «Пенелопу», и «Кавалера солдатского Георгия», и «Похороны доктора», и «Улетающего Монахова», и «Человека в пейзаже», и еще многие страницы и строки.
К тому же очевидная удаленность и отстраненность давали мне возможность объективно и всесторонне наблюдать человеческую и художественную личность Андрея Битова и постоянно открывать ее неведомые грани. Вот характерный случай.
В середине девяностых Михаил Сергеевич Горбачев выдвинул свою кандидатуру на пост президента России и, надо думать, по инициативе своих советников решил встретиться с ведущими писателями страны. В хибаре русского ПЕН-центра на правах главы его принимал Андрей Георгиевич Битов. Подозреваю, что ничего из сочинений этого известного прозаика Михаил Сергеевич не читал, целиком доверившись эрудиции своих консультантов. Что ж, надо отдать должное их компетентности. Такого Андрея Битова я никогда не видел. Трудно было поверить, что этот человек не занимал в СССР никаких руководящих должностей, не состоял в партии и вообще вел жизнь практически поднадзорного вольного художника. С бывшим главой империи он держался с естественным достоинством, совершенно на равных, избегая как излишней почтительности, так и классической интеллигентской заносчивости несколько диссидентского толка. Короче, как держава с державой. Уважая историческую роль своего собеседника и ни в чем не поступаясь своей собственной вечной миссией свободного русского писателя.
Когда теперь я вспоминаю тот день, на память приходит письмо Михаила Афанасьевича Булгакова Сталину. Других примеров совершенного благородства в общении художника с властью (неважно, настоящей или прошлой) я не знаю.
Что же касается чисто человеческих проявлений битовской натуры, то вот еще одно сугубо личное воспоминание. Однажды в изумительную пору июньских белых ночей я оказался на невских берегах. И вернувшись в Москву, признался Андрею с юношеской непосредственностью, что если бы был ленинградцем, никогда бы не стал жителем другого города. Битов посмотрел на меня с пониманием и укором…
Последние годы жизни он все чаще старался бывать в Петербурге.
2019
Андрей Максимов
Москва
Интонация бессмертия
© А. Максимов
В жизнь моего поколения Андрей Битов вошел интонацией.
Советская власть, к счастью, была довольно груба в определении антисоветчины и обратила внимание на Битова, только когда он поучаствовал в неподцензурном альманахе «Метро́поль».
Между тем интонация его была глубоко антисоветской, что само по себе, конечно, поразительно. Мало того, что явление интонации удивительно само по себе, так, оказывается, она еще может быть и вполне определенной.
У подавляющего большинства известных советских писателей, лауреатов и орденоносцев в книгах интонации не было. Точнее, была одна такая — общая, я бы сказал: общая, журналистская.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу