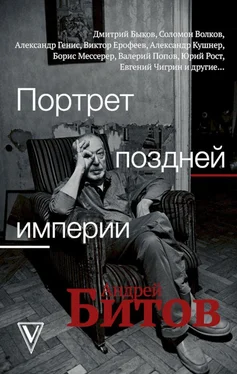Впервые в 2009 году Специальный диплом в связи с 210-летием А. С. Пушкина «За достоинство и верность русской литературе» вручен Майе Рыжовой из Челябинска (книга «Лабиринты поисков. Родственники и свойственники А. С. Пушкина». Челябинск).
Далее. Геннадий Опарин (Тульская область) отмечен за установление памятника репейнику в Пирогово, в имении сестры Льва Толстого. Он посвящен не только литературному творчеству графа Толстого, но и памяти всех погибших в Кавказских войнах. Напомню: однажды, поднимаясь от свежескошенных полей к дому, писатель обратил внимание на куст репейника, перееханный колесом, но все же стоявший крепко, несмотря на сломанные стебли. Эта картинка привела к созданию повести «Хаджи-Мурат», которая при жизни графа так и не была опубликована.
Александр Сёмочкин (Ленинградская область) — за возрождение усадьбы Рукавишниковых-Набоковых в Рождествено и создание музея Станционного смотрителя в Выре. А также Наталья Ивановна Михайлова — за разработанную ею и осуществленную концепцию Дома-музея Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной. Художник Константин Сутягин получил диплом за цикл художественных произведений «Про счастье». Мы чествовали и целый творческий коллектив из Карелии и его вдохновителя, журналиста Любовь Герасёву, автора сборника «Сродники: мы из Заонежья». Радовались и за бывшего тогда, в 2017 году, директора музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» Анатолия Коршикова, посвятившего более 20 лет жизни Остафьеву; ему в полной мере принадлежит заслуга возрождения этой знаменитой усадьбы.
Андрей Георгиевич всячески поддерживал это направление, считал этих людей настоящими подвижниками, сохраняющими преемственность и связи между различными поколениями представителей российского культурного пространства.
А что до нашего знакомства, есть несколько эпизодов, которые врезались в память. Замечательная поездка в Вологду, в Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. Битов там вспоминал, как его в свое время в армию забрали и в местный госпиталь отправили. Он был, конечно, центральной фигурой этой поездки. Компания собралась большая, в дороге непрерывно беседовали, кто о чем. В какой-то момент зашел разговор о стихах…
Я ведь никогда не слышал, как Андрей Георгиевич читает свои стихи. Но однажды нас пригласила в свой театр Елена Камбурова. Полтора-два часа он читал свои стихи с потрясающей энергетикой. А у него же была тяжелая травма головы: читал, читал, читал — и вдруг сел и отключился минуты на три, а потом продолжил как ни в чем не бывало.
Запомнился эпизод, случившийся в Комарове, где мы проводили вечера памяти Анны Андреевны Ахматовой вместе с Анатолием Найманом, с которым у Битова довольно долго была серьезная размолвка, но, несмотря на это, мне все-таки хотелось свести их в одном пространстве. Как-то заехали за Андреем Георгиевичем. Привезли в Комарово, заехали на кладбище — это ведь одно из знаковых мемориальных мест России — знаменитая аллея, потрясающий барельеф на стене. Постояли, помолчали, а потом поехали на вечер к шести часам. Выступление Битова упомянуто в книге Наймана. Андрей Георгиевич, если в двух словах, сказал так: вообще-то я Ахматову не люблю, но это удивительный человек — с большими ушами. Так тонко чувствовала она весь век, и всех талантливых людей, и четверку (Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман и Евгений Рейн), на которую она повлияла во всех отношениях… Так или иначе, я, кажется, своего добился, напряжение между ним и Найманом ушло.
А еще помню, как навещал Битова в Москве и Петербурге. Особенно когда он ложился на профилактику в одну из питерских больниц. Или заезжал к нему домой на Красносельскую. Я никогда не заводил с ним каких-то разговоров о литературе, просто любил его слушать. Потому что если он начинал о чем-то говорить, надо было просто молчать и за ним записывать. Получались замечательные эссе, причем с какими-то отступлениями, уходящими в символику цифр, и прочими неожиданными ассоциациями.
2019
Литературная обработка текста Дарьи Ефремовой.
Кристина Зейтунян-Белоус
Париж, Франция
Буква отсутствует
© К. Зейтунян-Белоус
С Андреем Битовым я познакомилась в начале 90-х, когда он приезжал в Париж на Книжный салон вместе с другими российскими писателями. В то время я подрабатывала устным переводчиком на литературных встречах. В 1995 году издательство «Албин Мишель» заказало мне перевод «Оглашенных». В третьей повести романа, «Ожидание обезьян», есть игра на букву О, связанная с Ожиданием и с Обезьянами. Но на французском «Ожидание обезьян» − это «Attente des singes». Буква О вообще отсутствует. Что же делать? Андрей Георгиевич мне сказал: «Сами напишите что-нибудь, если не получится, можно это просто убрать». Окрыленная оказанным мне доверием, я взялась за дело. Пришлось изрядно попотеть и сыграть одновременно на буквы О, А и S. Кажется, все же получился свободный перевод, а не отсебятина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу