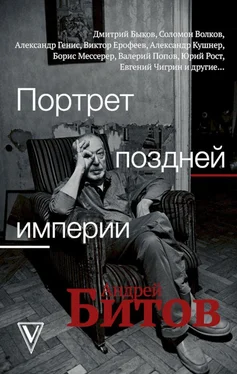Поплавав в архитектуре, попытаюсь пристать к литературному берегу. Пристаю и тут же с легкостью дилетанта рискую ввести в критику новый термин — «литература деконструктивизма». Более того, мне кажется, что «Оглашенные» и есть образец этого нового стиля. И не только образец, но и сам, если можно так сказать, путь возникновения стиля. Роман, пожалуй, начал писаться раньше (впрочем, что считать началом писания романа?), чем возникли идеи деконструктивизма, и его «деконструктивизация» шла параллельно возникновению архитектурного стиля. Но я далек от мысли, что писатель что-либо позаимствовал у архитектуры [1] Подозревать писателя в намеренном плагиате у архитектуры нет оснований. Писатель даже отчасти глух к визуальным искусствам, о чем говорит следующий эпизод, произошедший несколько лет назад. Вручая для прочтения рукопись «Человека в пейзаже», писатель мне и говорит, находясь в несколько возвышенном состоянии: «А спорим на ящик водки (ящик водки — это 20 бутылок по 0,5 литра — специально для иностранного издания), что ты не найдешь как художник (тут он ошибся, я являюсь лишь „членом Союза художников“) в этом тексте ни одной ошибки? Спорим?» Поспорили. И я тут же нашел, правда одну. Но не просто ошибку, а вопиющее незнание. Писатель, вспоминая знаменитую картину «Утро нашей Родины» («стоит товарищ Сталин, в руках у него макинтош, и он смотрит вширь» — так в свое время ее описала бабушка моего приятеля), назвал автором ее Герасимова, хотя любой ученик средней художественной школы знает назубок, что это творение великого Шурпина, лауреата Сталинской премии. Когда я сообщил об этом писателю, он стал объяснять, что все это, конечно, так, но он имел в виду совершенно другое, психологическое и т. д. Короче: ящик я так и… Но это уже не имеет к данным рассуждениям никакого отношения, тем более что весь эпизод из текста был удален.
.
Просто «идеи носятся в воздухе». Мощное развитие строительных «высоких технологий» (хай-тек) в случае нашего писателя выразилось в блестящей технике письма и сюжета. Я, читая роман (читал его и частями, и полностью), все время ловил себя на ощущении некоторой «детективности» чтения. Однажды начав, очень трудно остановиться; «события» мысли цепляются друг за друга, как события в настоящем детективе. Роман изображает себя детективом — некая обманка.
Вот еще одна «обманка». Первые части романа, написанные и изданные как отдельные тексты, с достаточно большими разрывами, являлись законченными произведениями, принадлежащими своему времени. Но время шло, сменилась, как говорили раньше, «социальная формация» в нашей стране, да и сама страна уже не та, что в «Птицах» и «Человеке». Но несмотря на это, роман, несомненно, ЦЕЛОЕ. Его объединяет сама личность пишущего, причем личность оказывается сильнее времени и событий. Тут невольно мне на ум приходит фраза из одной книги о Сезанне (цитирую по памяти, кажется, Воллара): «За долгую жизнь художника на его родине происходили революции, войны, однако они не оставили никакого следа в его творчестве». Мне всегда казалось, что это похвала!
Еще одним подтверждением деконструктивности романа может, несомненно, служить его четко написанный план (оглавление). Писатель, настоятельно подчеркивая конструктивность текста, как бы забывает о разновременности написания частей. Он пускает читателей по ложному пути, улыбаясь им вслед. Конструктивность текста становится его декором. Истинная же конструкция (то, что она существует, не вызывает сомнений) запрятана глубоко и мастерски, она существует чуть ли не на уровне подсознания.
И наконец последнее. В самых первых строках романа писатель пишет следующее, если можно так сказать, предуведомление: «В этой книге ничего не выдумано, кроме автора. Автор». Эта фраза может, по-моему, стать лозунгом деконструктивизма в архитектуре. В ней есть все признаки стиля. И направление по ложному следу, и путаница с положением автора, и, что главное, некое блестящее владение формой. То мастерство (хай-тек), когда видно только то, что должно быть видно, и не видно ничего, что должно быть скрыто.
Р.S. Я в этих, может быть чересчур смелых, рассуждениях не сказал ни одного слова об «идее произведения». Тут, конечно, виновата профессия. Еще в 60-х годах в среде архитекторов бытовала одна шутка: здание рассчитывается на статические, ветровые, динамические, сейсмические и другие нагрузки, но никто и никогда не рассчитывал здание на идеологическую нагрузку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу