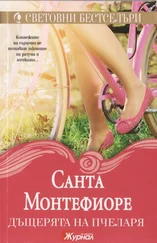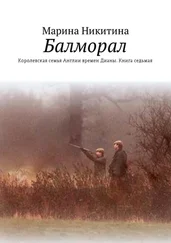Между 1880 и 1915 годами число евреев в Лондоне увеличилось вчетверо, и Совет попечителей завалили прошениями. В минуту паники один из членов совета выступил за то, чтобы ввести ограничения на допуск «беспомощной» голытьбы.
«Этот класс, – полагал он, – представляет серьезную опасность для общины. Эти люди всегда были попрошайками и бесполезными паразитами в собственных странах. Если позволить им переселиться в Англию, они так и останутся попрошайками и паразитами… Спасательная шлюпка почти полна. Если пускать на нее новых пассажиров, так тех, кто способен сам грести на веслах».
Мокатта от таких доводов хватался за голову. «Не наше дело как англичан пытаться не пускать в нашу страну кого-либо из наших ближних, особенно гонимых, – писал он. – Не наше дело как евреев пытаться запирать двери перед другими евреями, которых преследуют единственно из-за того, что они исповедуют одну с нами веру».
В то же время совет старался никоим образом не поощрять иммиграцию, и еврей должен был пробыть в Англии не менее полугода, прежде чем мог обратиться за помощью, да и тогда никто не гарантировал, что он ее получит. В 1885 году один недавний иммигрант, заработавший немного денег, устроил на собственные средства самый элементарный приют для иммигрантов. Об этом стало известно Совету попечителей, и Фредерик Мокатта вместе с Линдо Александером, почетным секретарем совета, отправился туда с инспекцией. Они, что неудивительно, нашли тамошние условия «нездоровыми». Это «пристанище», сказали они, «по-видимому, привлекает в нашу страну беспомощных иностранцев и потому непригодно для того, чтобы существовать». Совет обратился к местным санитарным властям, и приют закрыли, но другого не дали. В конце концов, вопреки активному сопротивлению старых семей, Герман Ландау, биржевик польского происхождения, и два кузена – Сэмюэл Монтегю и Эллис Франклин – построили достойный приют для иммигрантов.
Мокатта был тронут страданиями российских евреев и какое-то время призывал к массовой иммиграции в качестве решения их проблем. Но куда? Он не предлагал захлопнуть английские двери перед еврейскими беженцами, но никто и не слышал, чтобы он настаивал, что их надо широко распахнуть для всех. Палестину он считал слишком бедной, пустынной, слишком погруженной в хаос, чтобы принять сколько-нибудь значительное число новоприбывших, да и призрак сионизма вызывал у него страх. В 1903 году, после того как цивилизованный мир потрясли известия о кишиневском погроме, он написал хахаму, доктору Гастеру: «…Дело не терпит промедления: насколько я знаю, вы согласны со мною в том, что слово „сионизм“ ни в коем случае не должно всплывать при обсуждении ужасных кишиневских событий или при распределении средств, которые могут быть собраны. Нам следует приложить все усилия для сохранения спокойствия».
Какое-то время он верил в то, что русские евреи «до конца XIX века получат равные права с соотечественниками». Когда век подошел к концу, его оптимизм уже был поколеблен, и он стал призывать к массовой эмиграции в Северную Америку в качестве наилучшего и, более того, единственного решения еврейского вопроса. А то, что у Северной Америки могут найтись свои возражения, видимо, даже не приходило ему в голову.
Его отношение к благотворительности, как и у Коэнов, главных попечителей бедных в общине, было насквозь викторианским, и о нем ярко свидетельствует та процедура, которую проходили все обращающиеся за помощью, более похожая на допрос. Почетные члены совета восседали за круглым столом на возвышении. Сбоку от них сидел секретарь со всеми подробностями дела на руках, а на безопасном расстоянии, в дальнем конце комнаты, за медными перилами, стояли просители. Сидеть разрешалось только пожилым и немощным. Это, заявлял Мокатта, необходимо для эффективного ведения дел.
Фредерик Мокатта активно не занимался национальной политикой, он придерживался консервативных взглядов, и его пугали нововведения, особенно там, где государство стремилось вмешиваться в общественные проблемы. В государственной пенсии по старости он видел «проклятую ересь, которой всякий разумный человек должен противостоять всеми своими силами». Аналогичным образом он не питал сочувствия к движению за ограничение рабочих часов: «…Мне кажется, что работникам следует предоставить договариваться самим. Я всегда считал, что вмешательство в такие дела приносит больше вреда, чем пользы». Он сомневался в полезности профсоюзов: «…Пожалуй, эгоизм огромного числа работодателей все же делает их необходимыми, – написал он в 1892 году, – но мне представляется, что они проявляют деспотизм, отказывая в полной свободе тем, кто считает для себя правильным в них не вступать».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Хаим Бермант Влиятельные семьи Англии [Как наживали состояния Коэны, Ротшильды, Голдсмиды, Монтефиоре, Сэмюэлы и Сассуны] обложка книги](/books/391265/haim-bermant-vliyatelnye-semi-anglii-kak-nazhival-cover.webp)