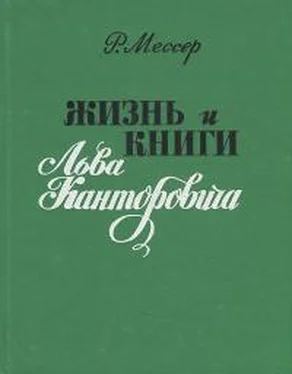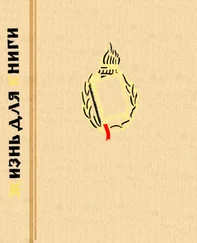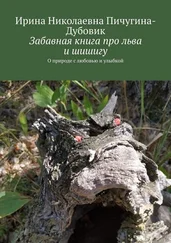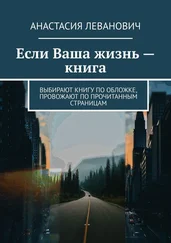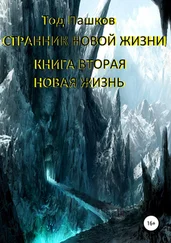Сразу после возвращения в Ленинград в ноябре Канторович не смог работать над книгой, другие события захлестнули его. Судя по письмам полковника пограничных войск В. Соменко, еще в апреле 1940 года книга не была завершена. 30 марта он пишет Канторовичу: «После бурь на Вашей границе приезжайте к нам вдохновляться в Карпатах. Пишите про виденное в Западной Белоруссии. Книжку, или что там будет, пришлите». Через месяц в шутливой форме, имитируя стиль военного приказа, Соменко отвечает писателю: «За письмо спасибо. План утверждаю. Не распыляться по мелочам. Требую: 1) Книжку написать про Западную Украину и Белоруссию. Это лучше сделать у подножия Карпат. При этом обязательно отшлифовать. 2) Писать в журнал «Пограничник» — нужно».
Судя но последней главе книги — «Пограничники идут вперед», — такая поездка состоялась, и лишь после этого работа была завершена.
Но сначала был исходный материал — листки дневниковых записей, сделанные второпях, карандашом. Они сохранились и помогают понять, как шел Канторович к своей очерковой книге, как он отбрасывал второстепенное, развивал отдельные эпизоды, жертвовал в интересах целого иными важными деталями.
Конечно, записи отрывочны, но они показывают ход мысли писателя, его раздумья о противоречиях местной жизни, о значении похода для пограничников. Потом выстроится книга — девятнадцать очерков-зарисовок. О пройденных дорогах, о наших пограничниках, о горо дах Вильно и Белосток, Друскининкай и Лодзь, о бедных селах и местечках.
В блокноте Канторович отмечал: «6-е октября. Марш в сорок километров. Половина колонны — запасные. Потерли ноги... Военком на последних километрах гонял взад и вперед свою машину и подвозил отстающих. Шли без воды. Шли с орудием. Дошли все-таки неплохо. Из 2000 всего 50 отставших. Их везли на машинах и на крестьянских подводах». В очерке «Бойцы», вошедшем в книгу, эта запись не только развернута, подробно говорится о взаимоотношениях «стариков» и кадровых пограничников, но главное — показан в действии сам автор. Мы видим писателя-пропагандиста, агитатора. «Я рассказал о пограничниках Средней Азии, потом прочитал из повести, где описывался переход пограничников через снежные перевалы Тянь-Шаня. Пограничники гонятся за бандой басмачей. В снегу, в буранах, на огромных высотах, без всякой дороги маленький отряд пограничников с боями пробирается по горам». Лев Владимирович даже не называет своей повести. Для него здесь важна реакция бойцов, которые делают выводы из услышанного: нужно постичь военное дело, нужно научиться преодолевать трудности.
Дневниковые записи от 7, 10, 13 октября так или иначе проявились в очерках. Таково описание барского дома, монолог бойца Степанова, зарисовка кафе в очерке «Вильно». Порой из маленького зернышка, штриха вырастают целые сцены. Иногда же материал так и оставался в записной книжке. Некоторые ее страницы показывают разносторонний взгляд автора на противоречивые явления жизни. «7-е октября 1939 года. Будни заставы. Спутник — молодой лейтенант, бывший летчик. Ему все непривычно. Ему трудно выдержать нашу с Гаевым молчаливость, и он поет все песни, которые пели в училище. Сидит на козлах рядом с кучером и шутливо сокрушается: «Было триста лошадиных сил, а теперь меня везут две паршивые лошадиные силы». Застава — в бывшей стражнице. Маленький покосивший ся домик. Начальник заставы, старший лейтенант, ест суп из котелка... Он сидит спиной к двери и едва обо рачивается к нам... Политрук заставы — молоденький, розовощекий и толстенький человек. И ему, и лейтенанту все безразлично от усталости...» С другой стороны, о бойцах той же заставы, о главных впечатлениях: «Лица спокойные, совершенно спокойные. Армия на работе. .. Эти... люди пройдут через огонь, через смерть. Они беззлобны, и всюду, где только можно, они весе лятся. .. Они очень хорошо знают, за что они бьются. Любой из этих дядек разбирается в делах мира, в по литике, в сложных отношениях между народами...»
В дневниковых записях приводятся и наивные раз говоры местных граждан о новой власти, и оценка по ведения некоторых из них нашим командиром роты: «Они немного слишком надеются на других, хотят получить все сразу в готовом виде». Само время отражено в дневнике. Тут рядом — восторженное и смешное, высокие порывы и мелкие страсти... Молодой человек посылает телеграмму не больше не меньше — «всем трудящимся от моего имени».
Читать дальше