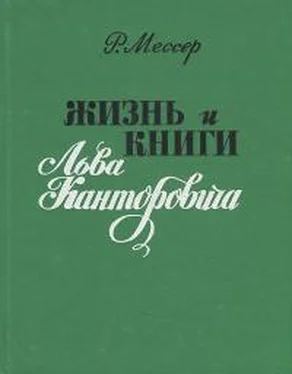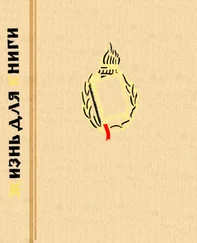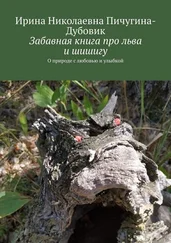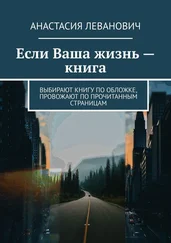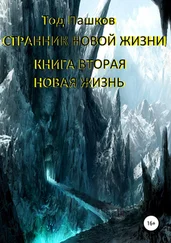Этот рассказ о боевом командире, судьба которого «мало чем отличается от судьбы многих других пограничных командиров», не был напечатан при жизни автора, но он бросает дополнительный свет на весь образ духовного наставника героя повести «Кутан Торгоев». Андрей Андреевич середины 20-х годов — еще не полковник, еще длятся те десять лет, что довелось ему провести в Средней Азии, еще впереди Дальний Восток и финская граница. Начальник комендатуры сильнее всего раскрывается через письма, в которых дана глубокая оценка положения и перспектив борьбы с басмачами (тут и «придется самому стать настоящим киргизом», и «Применяйся к местности!» — этот старый, испытанный девиз никогда не подводил нас»), и через решение назначить Кутана командиром добровольного отряда, созданного из бедняков- джигитов. О Кутане пишет в своем письме Андрей Андреевич («будем мы награждать этих людей»), и о нем же говорится в письме Джантая («его надо убрать с дороги»). Писатель Канторович и его герой — командир Андрей Андреевич — понимают: завоевав душу Кутана и таких, как он, можно разбить басмачей навсегда. И главное в повести не то, что начальник пограничной комендатуры умело руководит боевыми операциями, а что Кутай говорит жене коменданта: «Твой муж — самый лучший друг мне».
В конце повести Андрей Андреевич уезжает из Каракола, впереди новая граница. Он прощается с товарищами, с Кутаном, только что награжденным орденом. И читатель понимает — перед нами другой Кутан Торгоев.
Как и все произведения Льва Канторовича, повесть опиралась на реальные факты и человеческие судьбы. Но здесь было и нечто большее — писатель рискнул назвать героя собственным именем. С Кутаном Торгоевым (и это еще помнят старики киргизы) ездил Канторович летом тридцать шестого по горным тропам, и герой показывал ему, где бились с басмачами. Канторович видел эти горы и ущелья и представлял схватки 20-х годов. Пройдут десятилетия, не станет Кутана, но по-прежнему будут называть памятные места: камень Кутана — здесь он сражался, мост Кутана — его он строил. По стопам отца пойдет Асынгали, пограничник, а затем подполковник Советской Армии, а своего сына, внука Кутана, он пошлет учиться в Ленинград.
Все это выходит за рамки повести, но повесть — отражение жизни. Герой Канторовича, герой своего народа, пограничник и председатель колхоза, похоронен в родном селе, правительство Киргизии поставило обелиск на его могиле, а в бывшем Караколе, ныне Пржевальске, есть теперь улица Кутана Торгоева.
В истории энской пограничной заставы, где отмечены лучшие из лучших, сказано, что на ней «служил пограничник Кутан Торгоев, о котором написал книгу писатель Лев Канторович». Так сплелись в сознании людей герой и книга о нем. Мог ли мечтать писатель о большем?
Повесть о пограничниках Средней Азии, русских и киргизах, писал художник, на титуле было напечатано: «Автолитографии, рисунки, переплет и форзац Л. Канторовича». Читатель видел на вклейке портрет Кутана в профиль — молодое волевое лицо, прямой нос, тонкие усы, черные волосы щеткой; на другой вклейке — двух всадников на фоне гор и реки, текущей в ущелье. Еще и еще — вклейки и рисунки в тексте. Лошади, провалившиеся в снег, коричневые горы; лица героев — Закс, Николаенко... Он, работая над книгой, делал десятки рисунков и, как всегда, дополнял их выразительным описанием горной страны: «Низкорослые, кривые березы лепились по крутому склону ущелья и низко над тропинкой склоняли зеленые ветви. Выше берез горы покрывала густая трава, еще не сожженная солнцем. Весенние цветы пестрели в траве, и ветер доносил оттуда сильные, одуряющие запахи. Еще выше, над лугами, громоздились коричневые и серые груды камней. Зазубренные контуры скал высились, как башни фантастических замков. А над скалами сверкали снежные вершины, голубели ледники...»
Сколь бы ни был своеобразен материал азиатских рассказов и повести «Кутан Торгоев», неповторим их колорит — эти произведения прямо связаны с весьма существенной стороной развития всей нашей литературы. Мысль о росте национального достоинства всех советских народов, о сложной диалектике преодоления национальной ограниченности вместе с пробуждением революционного сознания проходит через многие книги Т. Семушкина, П. Лукницкого, Ю. Рытхэу. Эти процессы разнообразно отражались в литературе, находили теоретическое осмысление. Так, например, полемизируя в своем романе «Последний из удэге» с руссоистской идеализацией первобытно-патриархальных нравов отсталых народов, А. Фадеев утверждал, что единственный путь для удэгейцев - не консервация старого жизненного уклада, а вовлечение в социалистическую революцию, возглавляемую русским народом. Он писал об этом замысле: «Мне хотелось в романе «Последний из удэге» выразить вот такую идею: вопреки тому, что писали много лет художники из буржуазного и помещичьего мира — те из них, кто чувствовал противоречия эксплуататорского общества,— выход из этих противоречий лежит не в том, чтобы возвратиться вспять, а в том, чтобы перейти на более высокую ступень развития, завоевать и построить социалистическое общество».
Читать дальше