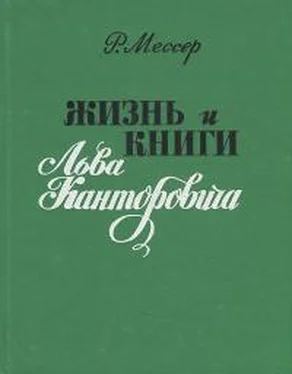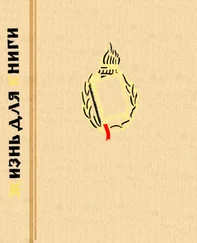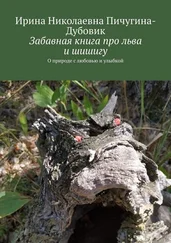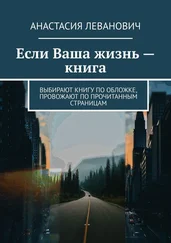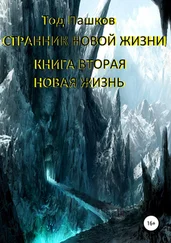Судя по приметам времени, рассказ «Дорога на Тянь-Шань» все-таки передает события 30-х годов, в то время как повесть посвящена предшествующему десятилетию. В рассказе бывшие пастухи и кочевники правят тракторами, колхозные бригады пасут огромные стада. Достаток пришел в далекие аулы. И снова возникает тема Москвы. Старый киргиз просит: «Скажи в Москве: ״не хватает машин“».
Пятая глава рассказа — «Битва в горах» — это военные воспоминания Торгоева, прямая перекличка с повестью. Здесь не только подробности боевой жизни, батальные сцены, но и фольклорные национальные мотивы. Рассказывая о том, как бежали басмачи от красноармейских сабель, боясь остаться в загробной жизни «без головы», Кутан воспроизводит мотив старой легенды о жалкой судьбе обезглавленного: у него нет права попасть в рай.
В повести главы (их тоже восемь!) и многочисленные подглавки не имели названий, но один из небольших разделов можно было бы назвать так же, как шестую главу рассказа: «Тропа Кутана Торгоева». И здесь и там строительство дороги и моста в трудных условиях гор. Зато главы «Охота» в повести нет. Правда, Андрей Андреевич в письмах зовет друга приехать поохотиться, и однажды он даже собрался вместе с Амамбетом пойти в горы, но вместо охоты получился у них очередной разговор о делах. Очевидно, седьмая глава рассказа («Охота») — неосуществленные страницы повести, в ней все красочно, романтично: и диковинные птицы, и горные звери, каких нигде больше не встретишь. Заканчивался рассказ пылким монологом обычно сдержанного и молчаливого Кутана («До свиданья, горы!»). В нем признание любви к родной Киргизии, в нем и авторское отношение к этому краю: «Видишь, какой наш Тянь-Шань, какая наша страна!»
Рассказ знакомит с экономикой Киргизии, благотворными социальными переменами в жизни народа, с преодолением специфических трудностей в развитии горной страны. Самое привлекательное в этом произведении — духовный облик героя, его упорство в покорении природы, жажда знаний, рост самосознания. Писатель увидел, как национальная самобытность сочетается с органически развившимся чувством советского патриотизма. Именно из потребности изобразить пограничника в разносторонних жизненных связях возникла у автора необходимость вновь провести героя по его родным горам, показать его в нелегком труде, в повседневных делах и при этом напомнить о воинской биографии. Если в повести «Кутан Торгоев» герой сначала мучительно искал свой путь к правде, а затем овладевал профессией пограничника, то в «Дороге на Тянь-Шань» он прежде всего предстает как хранитель культурных ценностей и традиций своего народа. Рассказ этот по-новому освещает круг идейно-художественных интересов Канторовича.
С первой же поездки в Среднюю Азию писателя привлекли два характера, два образа, один из которых был немыслим без другого. С одной стороны, это пограничник, уроженец здешних мест, киргиз, прошедший сложный путь духовных исканий, с другой — боевой командир старшего поколения, участник гражданской воины, защитник многих рубежей страны. Он может быть безымянным начальником, как в рассказе «Пост номер девять», и его могут звать Андреем Андреевичем, как зовут в повести «Кутан Торгоев». Так же зовут его и в «Рассказе пограничного полковника», написанном одновременно с повестью. В рассказе Андрей Андреевич повествует об одном боевом эпизоде, связанном с гибелью старого проводника Джамшида, но, пожалуй, главное здесь — биография командира, одного из любимых героев писателя. Уже по ранним произведениям Канторовича было видно, что герой-командир еще не раз привлечет его внимание.
Лев Владимирович думал даже над циклом рассказов пограничного полковника, но он не состоялся, видимо, и потому, что после «Кутана Торгоева» появилась уже повесть о боевом полковнике...
В рассказе чисто очерковое, информационное начало, справка о герое, точные цифры и даты: «А ведь он еще не старый человек. Ему около сорока лет. В партию он вступил в восемнадцатом году, двадцати лет от роду». В «справке» об Андрее Андреевиче, в этих тщательно названных подробностях писатель Канторович говорит о своих пристрастиях, о том, что он ценит сам в боевом командире. Очерковая, свободная форма позволила автору говорить публицистически прямо и о всех границах, на которых побывал командир, и о богатых его знаниях. «В Москве и на разных участках границы Андрей Андреевич научился многому: он опытный кавалерист, страстный любитель и знаток лошадей; отличный стрелок, он в совершенстве владеет и винтовкой, и пулеметом, и револьвером; ему приходилось охранять границу и на море, и он неплохо знает и морское дело; он любит и хорошо знает собак; он опытный лыжник и заправский охотник; кроме персидского, афганского, узбекского и финского языков, он изучил английский, а сейчас возится с немецким самоучителем...»
Читать дальше