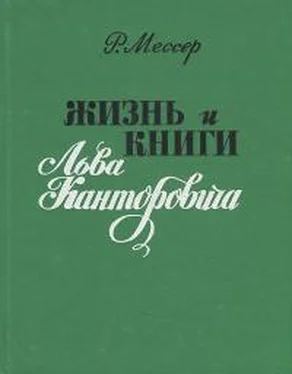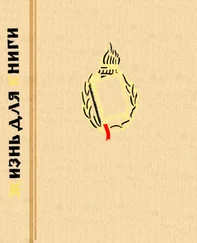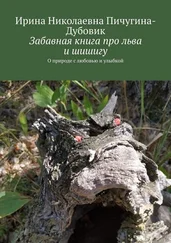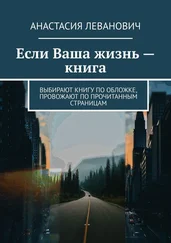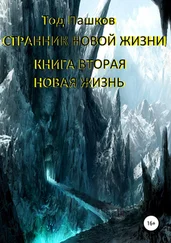Внезапно в действиях начальника заставы происходит перелом. Он просит отменить приказ, он остается, чтобы продолжить борьбу с лазутчиком Миркиным, которому почти безнаказанно пока удавалось нарушать границу. Лишь достигнув цели, Лось снова подает просьбу отправить его на учебу.
В каждом рассказе — один главный эпизод, но в первом случае («Начальник Лось») он как бы изолирован от других действий на границе, во втором речь идет о длительной, упорной борьбе с уже известным противником. Здесь есть место схватке психологической, ибо намечен портрет врага.
Мужество начальника заставы (Лось — не фамилия, прозвище) покоряло воображение молодых читателей. Один из них, впоследствии ставший литератором, вспомнил в конце 70-х годов, как написал письмо... начальнику Лосю и как, встретившись с автором, просил его передать это письмо командиру пограничников. [9] Воеводин Е. Отдать себя целиком. — Пограничник, 1978, № 4.
Наивному мальчику вряд ли приходило в голову, что писатель не совсем с натуры списывал героев, хотя иногда он называл реальных прототипов. Очевидно, своих Лося, Воронова, Головина и других командиров он «списал» с многих людей. В тот год, когда создавались рассказы Канторовича, писатель С. Диковский говорил: «Чтоб рассказать о работе таежной заставы, пришлось объехать не меньше десяти пунктов, а биографию начальника выбрать из тридцати четырех записанных биографий командиров». Речь шла о его книжке «Застава М.» (1932), в которую вошел рассказ «Товарищ начальник». Девять лет кочует по границе Гордов: «...Девять лет Гордов пишет историю своего роста, лоскутную биографию одного из тысяч рабочих, оторванных от заводов во имя безопасности страны». Разные герои у Диковского и Канторовича. Но есть общее — и в биографиях, и в подходе писателей к самому материалу. «Начальник уже семь лет па Севере. Шахтер из Донбасса, он молодым призывником был прислан на границу и после двух лет службы остался на сверхсрочную. Он возмужал и окреп в лесу». Это о Лосе. У Лося и Гордова общее дело. У обоих писателей далекое от «парадного» изображение пограничной службы. «Овраг, ветер, мороз. Лежат двое бойцов в снегу. Шлемы подобраны, хотя мороз за двадцать градусов. Пусть уши мерзнут, но слышат тайгу. Пусть пальцы прилипают к скобе, но чувствуют спуск», — пишет С. Диковский. За тысячи километров от тайги, в карельских лесах застава Лося. «От неудобного положения затекли ноги, тужурка намокла под дождем, холодная вода текла за воротник, руки закоченели. Очень хотелось курить. Лосю казалось, что ночь давно уже должна была кончиться, но все так же выл ветер и скрипели деревья». И то и другое — пограничные будни.
Первым рассказам Канторовича явно не хватало психологизма. Психологически скупо раскрыто решение Лося остаться на заставе несмотря на приказ об откомандировании на учебу. Вскользь сказано о стыде и обиде героя, пропустившего дерзкого нарушителя Миркина. Сама история, изложенная в рассказе «Шпион», была лишена подробностей переживания человека, смены его настроений. Перед нами скорее логика мысли, чем ее развитие. В этом плане Канторович-рассказчик поначалу уступал тому же С. Диковскому, который находил разнообразные возможности для демонстрации самого строя чувств своего героя-пограничника. В записях, ведущихся Гордовым, раскрывается слитность командира с делом, его некоторая наивность и вместе с тем умение из любого события, факта делать выводы, касающиеся службы. «Опера «Кармен», сочинение Бизе. Смотрел 10 января. Как один испанский пограничник — Хозе — из-за женщины пошел с к/б (контрабандистами. — Р. М.)... Опера «Кармен» может быть с разъяснением использована как факт влияния отрицательных настроений. Например, Михеев по дороге через колхоз посадил на седло и вез около двух километров неизвестную колхозную девчину, что есть лишняя нагрузка коню и нарушение дисциплины...»
Конечно, мы предполагаем, что Лось не просто приходит к своим решениям, что он переживает, негодует, но напряженности действия не хватает эквивалента психологического. Первые произведения Канторовича о границе — прежде всего подступы к овладению темой границы, открытие нового материала.
На этом пути были удачи. Мысли героев, их выносливость, их наблюдательность, их физическое напряжение в схватках с врагом писатель передавал убедительно. Так, подробно в рассказе «Лыжный след» показаны наблюдения пограничника в дозоре. По царапинам от палок он определяет направление лыжных следов, по свежести следа — время, когда прошел враг. Временами такой авторский анализ течения мыслей героя достигает драматизма. В ряде ситуаций рассказа Канторович раскрывает эмоциональное состояние героя. Такова сцена перестрелки с выслеженным врагом. «Теперь украинцу приходилось поворачиваться из стороны в сторону, а в него стреляли с флангов. От усталости руки дрожали. Он видел, как прыгает мушка, старался целиться как можно тщательнее, но ничего не мог поделать с руками и мазал. Он кусал губы... Горец бежал все скорее и скорее, боясь упасть, боясь остановиться. И все-таки он не удержался. Споткнулся и повалился в снег. Несколько секунд он лежал неподвижно. Потом поднял голову, приложил винтовку к плечу, раздвинул ноги. Затаив дыхание, стиснув зубы, повел стволом справа налево. Когда мушка, отчетливо черневшая, совпала с маленькой человеческой фигуркой, он дожал спуск». Эмоциональное состояние передано, но сами люди слишком расплывчаты, неопределенны. «Горец» и «украинец» — вот все, что известно о двух из пятерых пограничников, преследующих врага. Других отличительных черт людей не видно. Понятно, что горец хорошо стреляет, что пограничники — дружная семья. Но кроме общей картины, кроме этого напряжения поединка в рассказе ничего нет. Других задач автор здесь и не ставил перед собой.
Читать дальше