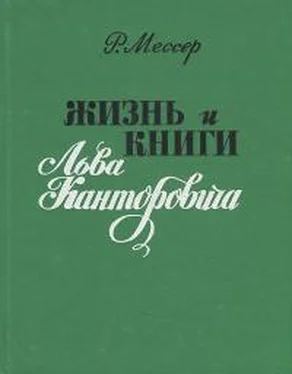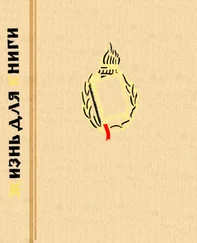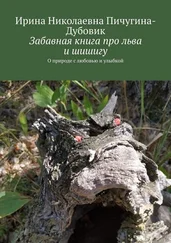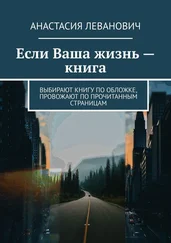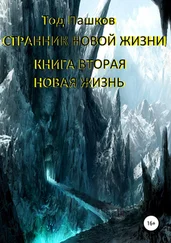Поединок Лося с Миркиным («Шпион») значительней уже потому, что мы ощущаем за этой схваткой реальных людей. В «Лыжном следе» передано состояние пограничников, преодолевающих трудности. Но здесь показан не столько внутренний мир героя, сколько сложность самого дела, служба. Писатель проявляет наблюдательность, умение видеть детали. «От холодного воздуха больно зубам. Мороз обжигал легкие. На бегу становилось жарко. Под полушубками взмокли гимнастерки, и из-под шлема стекали тонкие струйки пота... Ноги работали все скорее и скорее. Резче становился шаг, длиннее рывок. Ветер свистел в ушах. Уже не было связных мыслей. Горец шел впереди. Волнение било его, как лихорадка... Украинец шел за ним. Он громко дышал, сопел и сплевывал на ходу, но тянул, не отставая ни на шаг. Он был совсем мокрый. Шли молча...» Враги убегали. Они тоже шли на пределе сил. Они тоже громко дышали и т. д. В этом точном описании нет индивидуального, единственное, что отмечается, — несколько большая выносливость горца. У героев, фактически незнакомых читателю, нет возможности для рассуждений. Они действуют все-таки механически, хотя все их действия подчинены одной цели: задержать врага. Конечно, автор хочет показать самоотверженность наших людей, верность долгу. Но прежде всего это описание поведения. Разумеется, из него можно сделать определенные выводы. «Пробежав километров двадцать пять, пограничники сняли полушубки и спрятали их в кустах. После пятиминутного отдыха бежать стало труднее. Первые три казалось — нет больше сил. Без полушубков сделалось холодно. Намокшие гимнастерки замерзали на тридцатиградусном морозе, становились колом и звонко шуршали при каждом движении. Но через полчаса ноги стали работать механически. Незаметно прошла усталость. Тогда поднажали еще... Горец остановился. Молча расстегнул ремень, сбросил винтовку и стал снимать гимнастерку. Гимнастерка стаскивалась трудно. Запутавшись головой и руками, он топтался на месте. Украинец сначала удивленно посмотрел на товарища. Потом спокойно прислонил винтовку к дереву и тоже разделся до пояса. Разгоряченное тело сразу ожгло холодом. Лыжникам стало легче... Теперь пограничники бежали очень медленно. Нажимать больше не было сил. Они уже потеряли представление о том, какое расстояние прошли от границы. Бежали совершенно машинально. В висках стучало. Ноги стали подгибаться. А след был все такой же ясный». Впечатляющая картина. Автор убежден сам и убеждает читателя, что на границе служат люди, которые до конца выполнят долг, сделают, казалось, невозможное. Но в этой картине не хватает важного. Пройдут годы, и к знанию пограничной службы, умению передать ее сложности прибавится такое же знание людей, появятся характеры, индивидуальные черты. Герои будут не только разной национальности — русские, киргизы, украинцы, якуты, евреи — они будут действительно разными. Кутан Торгоев, Александр Коршунов, Борис Левинсон. У каждого своя биография, свое прошлое. И не только в повести придут эти индивидуальные черты, в рассказы тоже. Но этот художественный опыт придет не сразу, потребует времени.
Впрочем, и в первых книгах наряду с рассказами-зарисовками были и другие, где намечались интересные характеры. Таков старый моряк Головин («Рапорт командира Головина»), который, несмотря на годы, проклятый ревматизм, продолжает уже четвертый десяток морскую службу на катерах пограничной охраны. Автор рассказывает биографию героя, дает внешний портрет. «Головин сбрил волосы. Кожа на черепе загорела, стала коричневой. Зимой и летом голова блестела чисто выбритым шаром. Усы были такими желтыми, что им не угрожала седина». В рассказе передано нелегкое внутреннее состояние человека, его мнительность, ревность к молодым. Когда на дачном пляже он встретил своего бывшего матроса Колю Яковлева и увидел на его рукаве такие же командирские нашивки, какие носил сам, «ему стало чуть-чуть обидно, но Коля сделал вид, будто ничего не замечает, и так почтительно называл Головина «товарищем командиром», что Андрей Андреевич заулыбался и засиял». Вечная проблема смены поколений решается в рассказе тонко. Будто невзначай говорит старый командир о том, что его не забывают бывшие матросы. И так же ненавязчиво приводит эти высказывания автор. («Хороший табачок голландский присылает мне Коваленко. Он у меня был мотористом еще в тридцатом году»). Вернувшись из госпиталя на катер, он услышал: «Наш старик притопал» — и снова нахмурился: «опять было приятно представлять себя несчастным и обиженным». И лишь когда начальник отряда поздравил его с прекрасными результатами работы и вручил наградные часы, Андрей Андреевич, «сияющий и смущенный, не мог прочитать, что там написано. Наверное, от волнения буквы расплывались».
Читать дальше