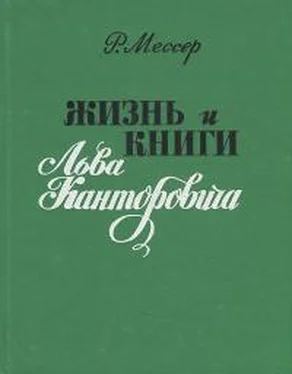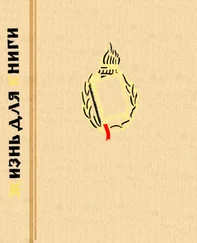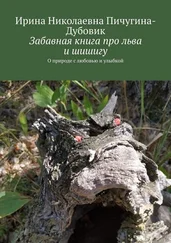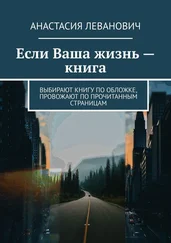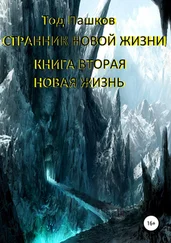Более близкое знакомствос Араки показало авторучто старыйаристократ способен к живому проявлениюсвоих чувств, но характер своего рисунка не изменил, нестал изображатьхозяина оживленно беседующим со своим советским коллегойо живописной культуре Востока. Араки-сан умеет слушать и говорить. Он излагаетсобеседникам свои представления об искусстве.
Художник против подражания европейцам, он думает, что искусство каждогонарода должно исходить из присущихтолько этому народу национальных особенностей и традиций. «Гораздо лучше ориентироваться на народное искусство, чем заимствовать у других национальностей».
Слушая эти слова Араки, автор очерка, конечно же,ощущал контраст между внешним впечатлением и сущностью аристократа-труженика, аристократа-художника,осуждающего тех, кто хочет отречься от традиций родного искусства. Он презрительно относится к жалким копиистам французских художников, чья творческая энергия уходит на преодоление собственных чувств. «Они ужене художники. Они ремесленники, и плохие», — говоритАраки.
Больше, чем в других случаях, в этом очерке авторпроявляет себя как художник-профессионал, которомуинтересно собственно художническое кредо Араки-сан, поэтому приводится пламенный монолог японского мастера о «Великой линии». Суть его такова: «Вы видитемир красок и объемов. Мы все видим прежде всего линию». Вместе с автором очерка проходим мы по мастерской, слышим пояснения ее хозяина и видим многие егорисунки, занимающие целые страницы книги. Канторовича поразили красота и яркость красок на огромных акварелях по шелку (петух среди кукурузы, цапли, трясогузка, ласточки), свободное и смелое отношение старогохудожника к натуре и огромный труд: множество сделанных черной тушью этюдов к картинам.
Советский гость не скрывает своего интереса к принципам работыАраки, который говорит об истоках свободной широкой техники рисунка, о высоком владении ремеслом, дающем власть над материалом. Для мастера все важно: и техника рисования, и философия искусства, и сорт бумаги, и выбор кисти. Араки-сан с удовольствием показал и пояснил, как создается настоящая линия, и обосновалкаждое движение на рисунке. «Научитесь у нас, возьмите у нас наше мастерство. Это поможет вам в вашей работе». В начале очерка автор признавался, чтоне знает, как говорить с этим «восточным вельможей». Но искусство сближает людей, разговор состоялся. И Араки-санрассказал об отшельнической жизни в своем саду, средицветов. Он изучал природу как натуралист и как философ,птицы и цветы стали для него могучими символамитайн мироздания. Рафинированное искусство привелок высшим формам буддийских абстракций.
Кажется,все ясно. Но в очерке происходит новый поворот. Мудрец, философ и художник раскрывается как политик. Он тратит десятки тысяч иен, устраивая в Сиаме блестящую выставку японского искусства. Сам отбирает картины, издает каталог. И все потому, что, проводя свой агрессивный курс, Япония стремится завоевать Сиам, подчинить его экономику и культуру, сделать колонией. Замкнутый ревнитель чистого искусства оказывается связанным крепкими узами с жизнью своего класса. Но он вышетупых и надменных японских аристократов, он понимает, что «не все спокойно в японском королевстве». Из разговоров с Араки-сан автор книжки делает вывод о том, что этот большой мастер не уверен в будущем старой аристократии, которая, слившись с буржуазией, теперь опирается не на самураев, а на фашистов и полицейских. «Бросая сотни людей в тюрьму, расстреливая и отрубая головы, стараются они задержать все растущее революционное движение. Яростно борются за старую Страну Восходящего Солнца».
Молодой советский художник и начинающий писатель не мог увидеть только Японию искусства. Его рисунки начала 30-х годов показывают, как интересовался он жизнью мира, как вглядывался в будущее. Поэтому так естественно выходит он за пределы одного искусства связанного широко с жизнью страны и народа. В отличие от других очерков этот завершается еще рисунком на котором Араки-сан изображен во весь рост. Выражение лица другое — на нем сосредоточенность, сомнение. В этот момент он отвечает на вопрос автора о путях современного японского искусства, о том, какое направление окажется более жизненным — классическое, традиционное или «европейское», подражательное: «Я не могу предвидеть, что будет с японским государством через несколько лет. Что же я могу вам сказать о будущем японского искусства...»
Читать дальше