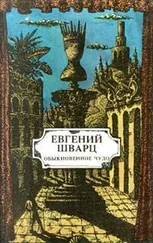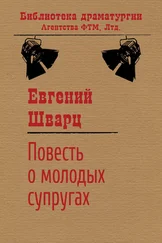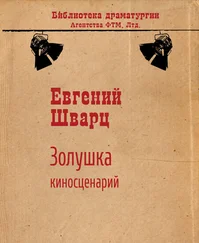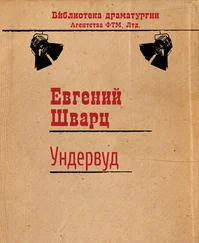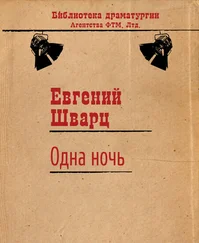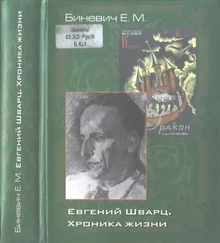Вагон, целеустремленно и равнодушно совершающий свои челночные рейсы, вмещает в себя все, что составляет русский национальный мир эпохи Шварца: обнищание народа, озлобленность, окончательное отчуждение власти от народа. По вагону проходят нищие, люди ссорятся и нервничают, проводники помыкают ими. В начале рассказа упоминаются как бы комичные «страшные» плакатики, предупреждающие беспечного пассажира о гибели. Застревающий в памяти читателя эпитет по мере чтения рассказа словно раскавычивается: комическая интонация уступает место устрашающей.
В подчеркнуто упрощенной рондообразной композиции, откровенно подчиненной такому случайному фактору сюжета, как циклическое движение пригородного поезда, в бессюжетности состоит эстетическое кредо Шварца этого периода: писать, не сообразуясь с установленными канонами. Такая творческая установка поистине двойственна: описание предельно объективно, т. к. просто следует за последовательностью получаемых извне впечатлений, и, в то же время, крайне субъективно, т. к. все усилия автора направлены прежде всего на наиболее точную передачу этих впечатлений средствами языка. Впрочем, есть в этой манере Шварца и нечто незыблемое: демонстративный отказ от каких бы то ни было приемов подогревания читательского интереса, будь то увлекательное композиционное построение или та техника комического, те блестящие парадоксы и каламбуры, которые так прославили драматургию Шварца.
Есть в такой позиции автора и скрытый вызов канонической современной литературе: вот де, без всяких творческих командировок, без экскурсов в далекие края и бурные моменты истории что можно увидеть и описать за 50 минут, 50 километров пути, до незамечаемости знакомого каждому ленинградскому писателю. Есть здесь и метафорический отклик на заветы русской классики: вагон электрички, в котором путешествует Автор, — это в сущности тот самый «третий класс», в котором призывал ездить литераторов чтимый Шварцем Чехов.
Сказанное выше о субъективной и сугубо художественной природе «ме» не означает, что «ме» лишены историко — литературной ценности как документальное свидетельство. Мы находим здесь и штрихи исторических портретов, и литературные анекдоты, и тонкие наблюдения над формированием литературных стилей. Но особенно в этом отношении для историка новой русской литературы показателен и ценен выбор, который делает Шварц при изображении литераторов и литературных явлений. Прежде всего бросается в глаза, что этот выбор ни в малейшей степени не совпадает с официальной советской версией истории литературы этого периода (хотя и критически, но, в основном, воспринятой и многими на Западе, особенно теми, кто выступил с обобщающими трудами до 1960‑х гг.). Восхищение, ирония, презрение Автора отражают иерархию литературных авторитетов, вкусы и стилевые поиски в традиционно — интеллигентской, петроградской, наименее политически ангажированной среде (в более риторические времена эти люди, возможно, называли бы себя последними римлянами, но они предпочитали называть себя «недобитыми», переняв словечко у победившего несентиментального класса). Из предшествующего поколения как наиболее авторитетные фигуры выделяются Чуковский и Замятин. Чувствуется благоговейное отношение к Блоку. Своим Шварц ощущает себя одновременно среди серапионов и обэриутов.
(Связь между Обэриу — русский абсурдизм — и сказовой, орнаментальной прозой «Серапионовых братьев» столь же несомненна, сколь мало изучена. Биография Шварца многое здесь проясняет. Шварц не случайный чудак, бегающий с одной свадьбы на другую. И личных отношений между представителями обоих литературных движений, и сходных тенденций в литературной работе было предостаточно, например: Зощенко — близкий обэриутам Олейников. Здесь отметим попутно, что и те и другие развивали и мотивы и литературную технику непосредственно предшествовавших русских литературных школ, в первую очередь, символизма: Белый — ►орнаментальная проза, театр Блока — ► театр и поэзия Обэриу. Многое из этого наследства обоими течениями усваивалось через пародию, причем пародийность была более свойственна обэриутам.)
Шварц сам лаконично и ясно описывает стилевые предпочтения своего круга. Например, такой важный их аспект, как новое понимание иронии (см. «Превратности характера», с. 130–162). Что касается иерархии литературных ценностей, существовавшей в этом кругу, то читатель, знакомый с литературой эпохи в целом, без труда выведет ее из воспоминаний Шварца. Например, незаметно, чтобы выход «Тихого Дона» был там воспринят как значительное литературное событие, но вот творчество Бориса Житкова Шварц расценивает по разряду русской классики (официальным советским литературоведением Житков признается как талантливый популяризатор, писавший для детей о различных профессиях). Осторожный в оценках, все оговаривающий Шварц, не колеблясь, прилагает эпитет «гениальный» к поэту Николаю Олейникову, чьи стихи появлялись только в альбомах друзей.
Читать дальше