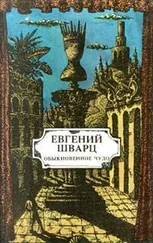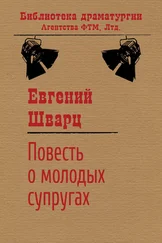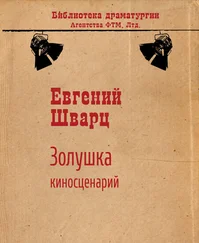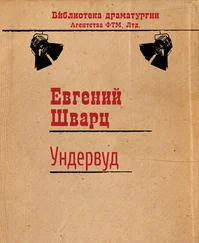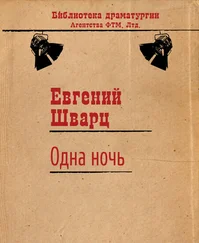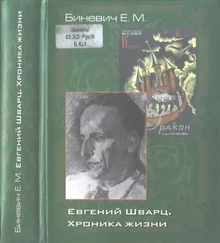Еще более характерна в этом отношении проза Бабеля, который настойчиво эпатировал читателя отменой сентиментального отношения к чужому (не своему) страданию: «Мне захотелось взглянуть, как выглядит женщина после изнасилования, повторенного шесть раз…» В раннем творчестве Бабеля есть даже элементы показного садизма, корни которого он сам пытается проследить в своих отроческих воспоминаниях (см. эпизод с чтением «Первой любви» Тургенева в автобиографическом рассказе «У бабушки»).
Несмотря на все те теоретические битвы, которые вели между собой лефовцы, конструктивисты и «югозападники», был некий объединяющий принцип и в их эстетике: отношение к литературному творчеству как к ремеслу, к созданию литературного произведения как к деланию вещи. Об этом тоже следует помнить, читая прозу Шварца, особенно «Печатный двор».
Иная культурная ситуация была в Петрограде, когда туда приехал и когда там начинал свой литературный путь Шварц.
Разумеется, и здесь не было недостатка в литературных нуворишах, которые к концу тридцатых годов положили конец петербургской культурной преемственности, последним отзвукам серебряного века. (Свою литературную полемику они вели, конечно, при широкой поддержке карательных органов государства.)
Но в двадцатые годы, в начале тридцатых, то есть в период литературной молодости Шварца, интеллектуальную атмосферу города все еще определяли художники, литераторы, мыслители, либо представлявшие серебряный век (Сологуб, Ахматова, Чуковский), либо в своем творчестве осуществлявшие переход от серебряного века к следующему этапу (Кузмин, Замятин), либо, наконец, те, кто представлял этот новый «после — серебряный» («бронзовый»?) период — Серапионовы братья (предшествуемые Замятиным), обэриуты (мостик к эстетическим новациям которых был выстроен Кузминым).
В Москве литературные группировки, эмбриональные клетки будущего союза писателей, бешено соревновались за официальное признание. Крупнейшие художники — Булгаков, Мандельштам, Пастернак, Платонов — были обречены в этой среде на одиночество.
В Петрограде же еще сохранялись литературно — художественные и философские кружки старого типа, в которых продолжались, как бы не прерванные революцией и войной, творческие и духовные поиски. И прежние моральные ценности в этой среде были отнюдь не отменены. Здесь культивировались формы неприятия надвинувшегося тоталитаризма: игнорирование, ирония, эзоповская, да и прямая сатира [4] Характерно в этом отношении следующее замечание А. А. Ахматовой в ее очерке о Мандельштаме: «В его биографии поражает одна частность: в то время (1933 г.) Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, persona grata, и т. п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград /…/ В Москве Мандельштама никто не хотел знать…» (А. Ахматова, «Сочинения», т.2, «Международное литературное содружество», 1968, стр.178.).
.
Так различалось окружение Булгакова и Шварца в начале их литературных карьер, которые, обе, начались весьма успешно. У обоих писателей репутация блестящего ирониста, московского/петроградского Оскара Уайльда уже как бы с самого начала была в кармане [5] Ср. изображение молодого Шварца в «Сумасшедшем корабле» Ольги Форш, где он выведен под именем Гени Чорна: «Геня Чорн — импровизатор- конферансье, обладавший даром легендарного Крысолова…» (О. Форш, «Сумасшедший корабль», Вашингтон, «Международное литературное содружество», 1964, стр.75.).
. Однако свойственное обоим писателям в зрелые годы стремление наполнить свои произведения значительным моральным содержанием привело к разным последствиям. Булгаков был напрочно зачислен во враги советской власти, в тридцатые годы его практически не печатали и не ставили, он умер сорока восьми лет, затравленный и в нищете.
На этом фоне жизнь Шварца можно назвать удачной. Несмотря на болезненность (еще одна черта личного сходства с Булгаковым), он прожил почти на восемнадцать лет дольше. При жизни он полной мерой познал стимулирующую радость доведения всех почти своих вещей до читателя, зрителя, успех, первые проблески славы.
По жанру его произведения в тридцатые и даже в сороковые годы попадали в зазор, до поры до времени оставленный государственной цензурой.
Дело в том, что государственная идеология включает в себя строгую иерархию жанров, сильно отличающуюся от той, что вырабатывается в живом литературном процессе, отражающую вкусы, идеалы и познания правящего бюрократического класса. В тридцатые и сороковые годы роман — эпопея помещался на вершину жанровой пирамиды, а «развлекательная» комедия, детские вещи попадали в самый низ. Существовала и широко известная иерархия тематики. В строгом соответствии с этими иерархиями распределялась и бдительность цензуры. Поэтому перед историческими и современными романами Булгакова опускался шлагбаум, тогда как легкожанровый Шварц «проходил» относительно свободно [6] Уровень цензурной бдительности с течением лет значительно возрос. В частности, именно небывалый успех сказочных комедий Шварца и попроще скроенной продукции его многочисленных эпигонов насторожил цензурные инстанции. Нынешних цензоров специально инструктируют бдительно относиться к любым аллегориям.
.
Читать дальше