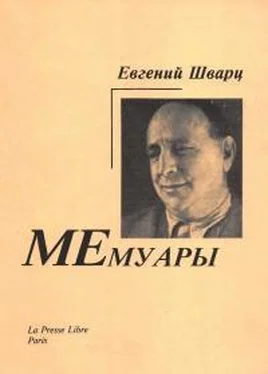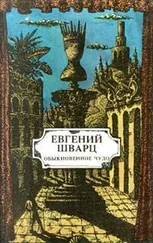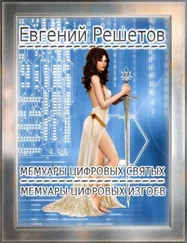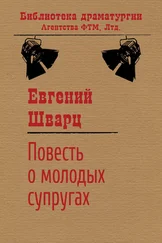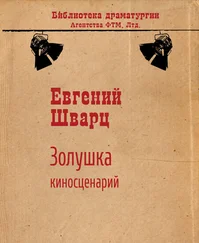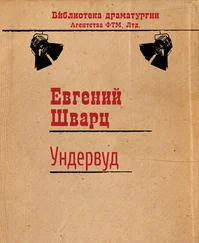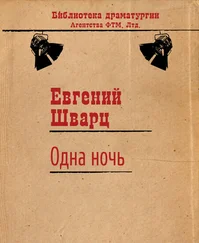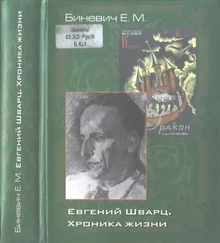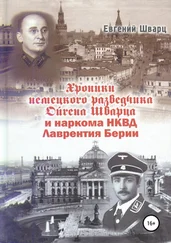Напротив, отталкивающие персонажи из среды пассажиров наделены чертами принадлежности к ним . Прямая речь этих персонажей клейм лена штампами официального, газетного языка. Таковы «гражданки с портфелями», возмущенные песнями нищего. Штамп пропаганды имеется и в речи омерзительного, пугающего дегенерата, хотя здесь он представлен уже в обкатанной просторечием форме: «Попадем, не в Америке …» (курсив мой. — JI. JL), — уговаривает он своего дружка, который боится, что они не попадут в кино.
3. Образ художника — нищего
Рассказ «Печатный двор» [10] Совсем уж странная по советским издательским канонам история произошла с «Печатным двором». Этот рассказ не только распространился после смерти автора, но и был напечатан! (Искусство кино № 9, 1962, с.95–106). Лебедев и другие упоминаемые в рассказе художники были еще живы. Бюрократическая неувязка.
, как и другие в «ме», построен внешне непритязательно, в той же форме неконтролируемого и подробного отчета, что и «Пятая зона» (там — отчет об одном рейсе, здесь — об одном дне молодого секретаря редакции). Но под внешней простотой отчета таится и другая композиционная структура, которую Шварц, прославленный современный сказочник, заимствовал из традиционного фольклора: герой, ищущий своей доли, до трех раз испытывается судьбой или испытывает судьбу (три встречи).
Герой здесь — сам автор в молодости, на жизненном распутьи. Доли своей он ищет в художестве. Три артистических образа, встреченных последовательно, усиливают впечатление — каждый от предыдущего. Эти образы — соблазнители вначале очаровывают автора, чтобы затем, осилив чары, он поостерегся неправильных путей. Один из лучших русских художников этого столетия В. В. Лебедев, легендарный наборщик Фатаген Керосиныч и (собирательно) пьяный нищий у Дерябкинского рынка выстраиваются в один ряд: все они, как остерегает автора внутренний голос, пошли по неправильному пути, по пути чистого артистизма.
Чистый артистизм, таким образом, прослеживается на трех уровнях: высокого искусства, мастерства и житейского богемства, — причем повсюду он привлекателен, — то, что на старом русском языке называлось прелесть. В первом случае прелесть состоит в неограниченном самовыражении художника, без каких бы то ни было исторических, моральных, философских, религиозных коррелятов; во втором — в служении мастерству как таковому (при этом сфера общения с миром, сильно суженная уже в первом случае, здесь сужается совсем резко: цех — кабак); и, наконец, третья прелесть — окончательная свобода нищего под забором, где «никто не слушает друг друга», «поэтоподобные распухшие чудовища».
Существенно, что первым объектом недоверия Шварца становится одержимость мастера предметным миром. Шварца смущает и отталкивает не заурядное стяжательство, а именно артистическое преклонение перед вещью. С точки зрения самодовлеющего артистизма совершенно выполненная вещь — шкаф, рисунок, литературная деталь и есть та конечная точка, на которой замыкается творчество. В эпоху все захлестывающей пропаганды такая точка зрения привлекательна жесткостью требований, которые она предъявляет художнику. Многим, как Лебедеву, пестование мастерства представлялось единственной альтернативой унизительному художественному прислуживанию. Изображение вещей, вещного мира, вероятно, самая острая эстетическая проблема русского искусства и литературы в 1920–1930‑е гг. В ней выразилась реакция на десятилетия социальной, философской, религиозной ангажированности русского искусства. История литературы наглядно демонстрирует естественность этого процесса, символически поднимая по обе стороны политической трещины удивительно сходные в тот период по творческим принципам фигуры Олеши и Набокова. Первая страница «Зависти» и первая страница «Дара» могут быть объединены в общий литературный манифест эпохи. Это движение укреплялось теоретической работой формалистов [11] В 1972 г. мне случилось показать В. Б. Шкловскому стихотворение Бродского «Натюрморт», в котором вечность бесструктурной вещи («вещь, как правило, пыль») противопоставляется временности человека. Прочтя стихотворение, Шкловский сказал: «Так еще никто не описывал вещи». Разумеется, он знал, что такого рода противопоставления уже встречались в другие художественные эпохи, например, в период европейского барокко; он имел в виду, что эстетика его времени уже не актуальна. Стихотворение произвело на него сильное впечатление.
.
Читать дальше