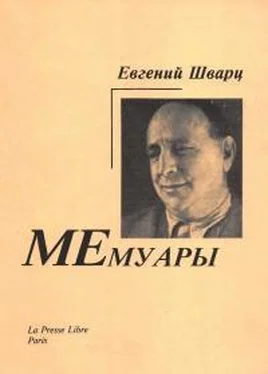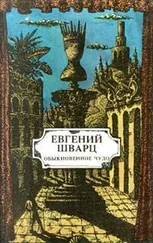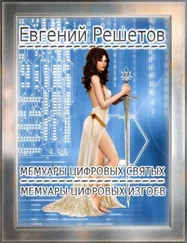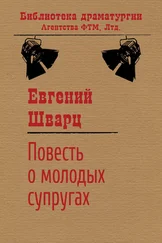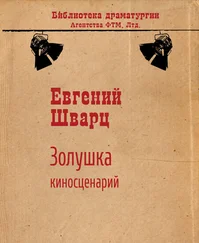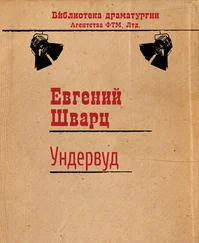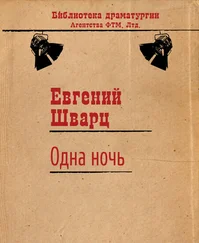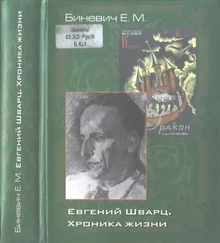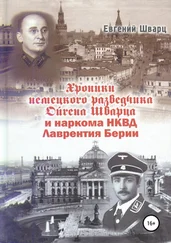И все же до самого конца можно усмотреть параллелизм в творческом развитии этих двух наследников великой русской литературы. Обновленному романтизму «Мастера и Маргариты» полностью соответствуют пьесы Шварца, снискавшие ему всемирную известность — «Голый король» (1934), «Тень» (1940), «Дракон» (1943). (Мы говорим «пьесы», но сама синтетичность жанра — драматическая комедия? лирическая пародия? притча — фарс? — свидетельствует о новаторском романтизме.)
И, наконец, глубинное сходство мы видим между «Мастером и Маргаритой» и прозой Шварца. И там и здесь оба автора более всего стремились избавиться от инерции собственного писательства, создать произведения наиболее адекватные своему мировосприятию. В центре того и другого произведения оказались выразительнейшие портреты культурных общин: у Булгакова выживающей и отвратительной автору Москвы, у Шварца — умирающего и дорогого автору Петрограда.
2. Портрет времени как жанр и тема
Сам Шварц, как рассказывает А. И. Пантелеев, относил свои прозаические произведения к жанру «ме». Пародийно сокращая слово «мемуары», он намекал на то, что относить эту вещь к мемуарам в традиционном смысле, то есть к жанру рассказов участника и очевидца об определенных лицах и событиях, никак нельзя [7] «Мы знали Евгения Шварца», стр.49.
. Действительно, к наиболее ярким героям этих мемуаров наряду с известными писателями и деятелями русской культуры относятся — и им уделено не меньше авторского внимания — совершенно безымянные попутчики писателя по пригородному поезду. Кошка, сидевшая на мусорном ведре в 1922 году, описана подробнее и психологически глубже, чем всесильный секретарь правления Союза писателей А. А. Сурков. Вскользь, почти ничего, говорится о собственных трудах. Зато собственное безделье описано подробнейшим образом, с тонкими нюансами.
Нам кажется, что в основном мемуары суть разновидность одного из жанров художественной прозы, а именно романа. Любое мемуарное произведение — это роман, в котором в качестве материала использованы не фиктивные, а реальные события. Разновидности мемуаров легко различимы по тем же структурным принципам, что и разновидности романов: мемуары монологические (в основе — судьба, карьера героя — автора, развитие его отношений с миром; таковы: «Жизнь…» Бенвенуто Челлини, «Другие берега» Набокова, «Целина» Брежнева [8] Непрофессиональный писатель, выступая в жанре мемуаров, автоматически подчиняется законам прозы. Поэтому неосновательна была ирония прессы по поводу того, что в оглавлении одного советского журнала (Soviet Literature) воспоминания генерального секретаря КПСС о его деятельности на различных официальных постах были помещены под рубрикой «fiction» (художественный вымысел).
), мемуары полифонические (в основе — многие образы- голоса: 2‑й и 3‑й тома «Былого и дум», «Люди, годы, жизнь» Эренбурга), мемуары эпические (в основе — ход времени, портрет эпохи: 1‑й том «Былого и дум», отчасти «На рубеже двух столетий» Белого), мемуары орнаментальные, «с установкой на выражение», пользуясь формалистским жаргоном (Паустовский, Катаев). Подходить к мемуарам как к историческим документам можно лишь с большими оговорками (даже и в тех случаях, когда авторы не выступали до того в профессиональной литературе), а прилагать к ним эстетические мерки можно с полным основанием.
В этом ряду проза Шварца может быть определена как эпические мемуары. В произведениях этого жанра главным действователем является не лицо (и не лица), а память автора, и объектом творческого воплощения оказываются не характеры, не события, а настроения, отношения, мифы, предрассудки, характерные для описываемой эпохи в ее развитии и, собственно, и составляющие портрет эпохи.
Этот подход объясняет, между прочим, и стилистическое единство таких сюжетно несходных частей «ме», как «Пятая зона — Ленинград» и «Печатный двор» или как «Печатный двор» и отрывки, посвященные Чуковскому и детским писателям, или же отрывки и «Пятая зона — Ленинград».
«Пятая зона — Ленинград» закономерно может быть поставлена в воспоминательный цикл, потому что здесь дана одна из вариаций общей темы: взаимоотношения людей в рассматриваемую эпоху; в частности, групповой портрет народа, к которому принадлежит автор. Здесь же оформляется и авторская позиция как моралиста, наблюдателя и судьи эпохи.
Информативная насыщенность этого пятистраничного рассказа совершенно исключительна. Уделяя своим многочисленным персонажам в «Пятой зоне», казалось бы, немногим больше слов, чем это требуется для простого перечисления, Шварц создает индивидуализированные образы, за каждым из которых кроется характерная черта страны и эпохи. Все вместе это и складывается в картину: «Россия, середина XX века».
Читать дальше