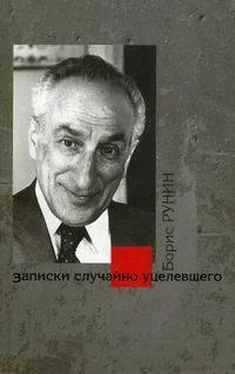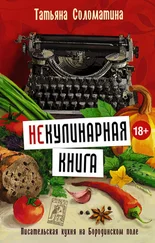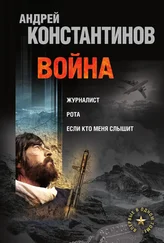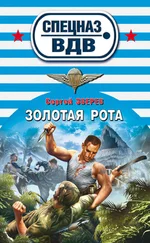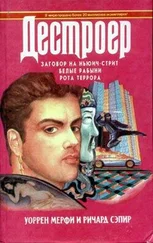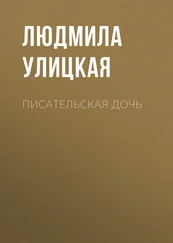Писательская рота, в которой мне суждено было начинать войну, состояла из людей сугубо индивидуального опыта, обусловленного их профессией.
Вполне естественно, что само превращение такого пестрого собрания индивидуальностей в некое сплоченное содружество не могло обойтись без некоторых издержек. Ведь это был процесс преодоления весьма стойких социально — психологических навыков во имя приспособления к новым, необычным формам совместного бытия в экстремальных условиях. От одних этот процесс потребовал в качестве душевной амортизации каких — то нелепых чудачеств, вымышленных эмоций. У других он был сопряжен с гипертрофией фаталистических настроений. Третьим инстинкт подсказывал в качестве нравственной опоры настойчивый оптимизм, оптимизм во что бы то ни стало.
Но и те, и другие, и третьи — все мы тогда, может быть, безотчетно, очень быстро прониклись духом воинского братства, духом дружелюбия и взаимной поддержки. Старые счеты, борьба самолюбий, вздорная цеховая нетерпимость на поприще славы, зависть, литературное местничество — все это разом отступило перед грозным велением долга, которое принесла с собой война.
Бек и Роскин, Яльцев и Кунин выделены мною здесь из общей массы писателей — ополченцев не только потому, что я их успел тогда узнать ближе других. Эти люди были мне интересны, меня к ним тянуло. Они лучше, чем я, понимали жизнь, и понимали ее не так, как я.
Бек защищался от ее тягот с помощью обманного простодушия.' Он почти по — детски играл со своей судьбой в жмурки, хитрил с нею, отводил ее от себя, прикидывался для этого другим человеком.
Роскин не столько защищался от тягот войны, сколько принимал их как свою неминучую долю. Он принес с собой в ополчение какую — то жертвенную готовность разделить историческую участь миллионов.
Войну он ощущал как трагедию, в которой каждая личная участь значит не меньше истории. Роскина как литератора особенно страшило в войне ее властное и неумолимое своеволие в море человеческих судеб. Может быть, поэтому его так раздражали розовые иллюзии, которые у многих тогда еще сохранились от мирного времени. В этом смысле он принес с собой на фронт ту суровость толкования событий, которая позволила ему провидеть неслыханную жестокость этой войны, ее тотальный характер, немыслимые раньше масштабы нравственных потрясений.
Роскин дважды приходил ко мне на нашу высотку из своей санчасти. Он приходил за несколько километров для ночных бесед. Как я теперь понимаю, ему было важно, чтобы я его запомнил, чтобы он остался в моей памяти. Нам никто не мешал, все кругом спали. Лишь изредка зуммерил полевой телефон, и я в качестве дневального откликался на проверку связи.
Мне разговаривать с Роскиным было очень интересно и очень трудно. Я был намного моложе, намного наивнее, намного непосредственнее. Но те наши ночные беседы о жизни и смерти как бы стали для меня окончательным прощанием с юностью.
Яльцев, напротив, привлекал меня своим неистребимым оптимизмом. Интеллигент из крестьян, Яльцев таил в своем характере, в своей внешности нечто аристократическое. Даже в нашей ополченческой форме он сохранял присущее ему строгое изящество. Я думаю, что оптимизм его питался главным образом за счет органического чувства внутренней свободы. Тонкое сочетание независимости и иронии делало его характер как бы слегка прищуренным, притом что он умел искренне и беззаветно радоваться самым разным проявлениям окружающей действительности.
И наконец — Костя Кунин. В этом нестройном ряду у Кости тоже есть свое, особое место. Он был ярко выраженным носителем сознательного, глубоко интеллигентного долженствования. Чувство долга было в нем сильнее всех его безмерных энциклопедических познаний…
В заключение мне хочется вернуться к тому разговору на привале возле Малеевки. Конечно, он был порожден стремлением каждого заглянуть в свое будущее, угадать свою судьбу. Случилось так, что эта самая судьба отмерила мне еще более сорока лет жизни с того памятного дня, и я могу хоть как — то рассказать людям, какими добрыми товарищами мы были. Конкретными же сведениями я, к сожалению, почти не располагаю. Даже о тех, кто уцелел тогда, в октябрьских боях, я теперь мало что могу поведать. Почти все умерли. А время в этом смысле безжалостно, оно не щадит и тех, кого пощадила война…
И все — таки несколько итоговых слов об упомянутых мною литераторах добавить необходимо.
Читать дальше