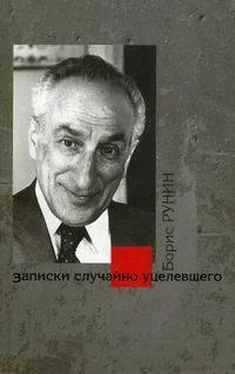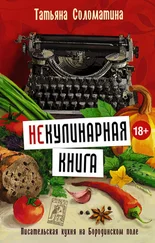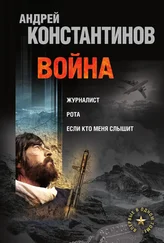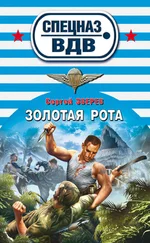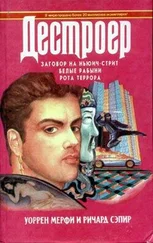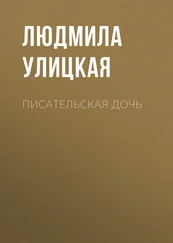Неужели вражеские силы так глубоко проникли в наше расположение? Неужели фронт откатился так далеко, что его не слышно? Ведь еще днем он проходил где — то поблизости…
Беспокойная мысль, которую мы всячески отгоняли от себя на протяжении последних двух часов, не позволяя ей облечься в слова, требует, чтобы мы назвали вещи своими именами: мы в окружении… Сейчас бы закурить… Но присланные из Москвы папиросы в вещевых мешках, а мешки в машине…
О том, как мы скитались по немецким тылам, как догоняли фронт, как тщетно искали лазейку в неприятельских порядках и как в результате ровно через месяц все трое — Фурманский, Сафразбекян и я — всетаки пробились к своим у Алексина под Тулой, я здесь рассказывать не буду. Окружение — это особая тема, а я пишу о людях нашей писательской роты. Поэтому еще немного о Кунине.
В ту ночь, когда он у меня на глазах упал в кузове полуторки, прошитый, как мне показалось, пулеметной очередью, судьба на самом деле смилостивилась над ним.
Просто машина рванула с места, и Кунин, потеряв равновесие, упал, благодаря чему и остался невредим, именно таким случайным образом разминувшись со своей пулей. Рядом кто — то, но не он, был тяжело ранен.
Обо всем этом мы узнали много позже, когда Кунин, прослышав, что Фурманский после окружения объявился в Москве, написал ему на адрес Союза. Кунин тоже более двух недель выбирался из котла, только севернее, под Вязьмой, а потом был назначен в какую — то часть переводчиком. Оказывается, среди языков, которыми он владел, был и немецкий.
Он писал нам с нового места службы, с передовой.
Письмо было горькое и, по существу, прощальное. Кунин уже знал, что его жена бесследно исчезла. Он понимал, что она погибла, как и большинство наших штабных офицеров, принимавших делегацию Союза писателей. Из его письма явствовало, что после всего случившегося он не возлагает особых надежд на свое будущее. Оптимист и жизнелюб, он говорил об этом просто и серьезно, никак не жалуясь…
И еще он просил у меня прощения за то, что, выйдя из окружения, доложил по команде о моей гибели — он же сам, своими глазами видел, как я, соскочив с машины, упал, прошитый автоматной очередью.
Вот почему, пока я находился в окружении, на меня в Союз писателей пришла похоронка. От моей жены, эвакуированной Союзом в Казань, ее до времени скрыли.
Однако не так это все просто — есть вещи, которые невозможно предусмотреть. Я рассказываю это к тому, что война предлагала людям совершенно необычные комбинации случайностей, очень далекие от привычной логики цепочки причин и следствий. Она протягивала среди нас свои, порой самые неожиданные связи. Я позволю себе здесь маленькое отступление на эту тему.
Моя жена близко дружила с Антокольским и его женой, вахтанговской актрисой Зоей Константиновной Бажановой. В Казани эта дружба стала особенно тесной.
Они там вместе голодали и холодали. Особенно мучила голодуха Антокольского. И вот однажды, весьма возбужденный открывающейся перед ним перспективой, Павел Григорьевич приносит Зое Константиновне радостную новость: полушутя — полусерьезно он говорит ей, что мою жену внесли в список на копченую колбасу.
Мол, она этого еще не знает, но он сейчас ей об этом сообщит и тогда, глядишь, ему за добрую весть тоже перепадет кусочек. Все это происходило на людях.
— Ты сошел с ума, Павлик! — закричала испуганная Зоя Константиновна. — Пока до нее не дошло, надо ее немедленно из этого списка вычеркнуть. Пора бы тебе, старому гурману, знать, что копченую колбасу решено давать только вдовам…
Этот диалог относится примерно к первым числам ноября. 13 ноября жена получила от меня телеграмму, что я жив и вырвался из окружения. А 21—го погиб Костя Кунин. Погиб, так и не узнав о начавшемся через две недели нашем наступлении под Москвой.
А теперь еще об одном моем друге — о Павле Яльцеве. О его судьбе.
Я уже говорил, что мы в ополчении делили все трудности походной жизни истинно по — братски, даже не отдавая себе в этом отчета. Такова была нравственная атмосфера, естественно сложившаяся в роте с самого начала. С момента выхода из Москвы. И чем дальше мы от нее уходили, тем более насущными становились для каждого из нас эти навыки повседневной солидарности. В истории Павла Яльцева они проявились, пожалуй, с наибольшей наглядностью.
Павел с первых же дней похода страдал от зубной боли. Облегчить его мучения в полевых условиях не было возможности. Он долго терпел, но потом стал проситься хотя бы на два — три дня в Москву к стоматологу. В конце концов командование ему разрешило эту поездку. На целых пять дней. А произошло это в конце сентября.
Читать дальше