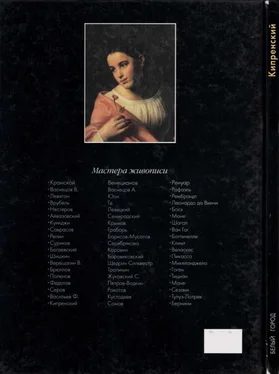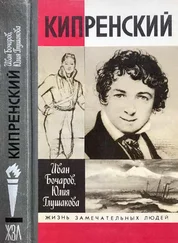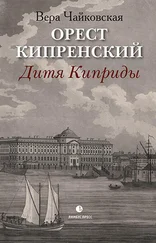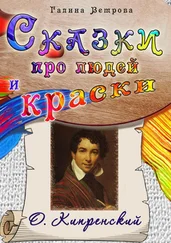Мастерски владея изображением рук, Кипренский откровенно вступил в соревнование с классикой. Естественная грация покоя чуть расслабленных рук Моны Лизы здесь заменена более сложным ракурсом правой руки, держащей веер. Интересно заметить, что длинные рукава у Авдулиной закрывают запястья, видимые у Моны Лизы, а это ведь та точка гибкости, отсутствие которой придает абрису рук Авдулиной тревожащую взгляд странность. Современному глазу покажется странным и модный чепец. Такие рюши и оборки, идущие вдоль завязок, можно увидеть на многих женских портретах тех лет (у Кипренского, например, в портрете Щербатовой или в выполненной в Париже литографии, изображающей Ростопчину, которая обожала чепчики). Этот прозрачный тюль с белыми мушками, дрожащий около болезненно-нежного лица - еще одна рамка, еще одна невесомая граница, отделяющая человека от свинцово-сизых туч за окном. Все «устройство» этой композиции указывает на ее аллегорическое происхождение. Но это какая-то косвенная аллегория - художник умудрился сохранить портретный характер изображения, присовокупив к нему универсализирующую содержание тему memento mori путем сопоставления преходяще-хрупкого и мизерного (опадающий цветок в стакане) с беспредельно грандиозным (грозовое небо за окном).
Живописная манера, сплавляющая мазки кисти и сглаживающая фактуру, одновременно позволяет любоваться стильностью и элегантностью ампирного костюма. Из Кипренского вышел бы отличный кутюрье. Совершенно «простое», почти ничем не украшенное темное платье с большим вырезом, и две нитки невероятно крупного жемчуга на оголенной шее. Непременный аксессуар - турецкая шаль цвета старого золота и такого же цвета, но клетчатая лента: ею обычно повязывали голову, чтобы удерживать длинные локоны, которым надлежало кокетливо выбиваться из-под чепчика, но которые здесь почти не видны.
Авдулина была внучкой Саввы Яковлева, заводчика и миллионера екатерининского времени, нажившего огромное состояние. В 1808 году она вышла замуж за генерала А.Н. Авдулина.
Из Парижа Кипренский уезжал вместе с князем А.Я. Лобановым- Ростовским, богатым барином и коллекционером. Точнее - Лобанов-Ростовский, пригласивший с собой художника, сделал остановку в Мариенбаде, где несомненно по инициативе князя Кипренский нарисовал портрет Гете. Рисунок не сохранился, но он известен по литографии. Гете сделал отметку в своем дневнике обо всех сеансах позирования и темах беседы с русским художником: «о современном римском искусстве и художниках, особенно о немецких, а также о Париже и тамошних обстоятельствах». А в одном из писем отметил даже, что Кипренский «правильно мыслил и ловко работал» и ему «удалось всех удовлетворить». Затем путешественники через Дрезден и Берлин направились в Россию - и с августа 1823 года Кипренский в Петербурге.
В биографическом отношении обозначенный период - это опять положение свободного художника: Кипренский не служит в Академии, «ничем не отличен от двора», то есть, как и вообще портретисты, существует заказами.
Портрет графа Дмитрия Николаевича Шереметева привлекал внимание большого количества посетителей академической выставки 1824 года, в частности и тем, что здесь видели одного из самых богатых людей России, к тому же еще и показанного на фоне комнат собственного дома так, как будто он встречает зрителей, как гостей. Действительно, традиционный тип парадного позирования в окружении принципиально условных драпировок, атрибутов богатства, знатности и привилегированности Кипренский соединил с изображением реального интерьера реально существующего дворца. Правда, надо признать, что в этом соединении герой портрета оказывается как-то странно похож на марионетку - вещь, предмет обстановки. Это потом, уже у Брюллова, эти марионетки «оживут» и будут с аристократической непринужденностью естественно существовать среди пышности, блеска и роскоши. И наряду с этим красота и гармония интерьеров архитектуры классицизма, дворцов и дворянских усадеб станут предметом и темой живописного интерьерного жанра в творчестве венециановской школы. Кипренский уловил новые веяния и тенденции. Но в этом первом портрете, открывающем период, именуемый «поздний Кипренский», мы можем видеть уже элементы рассудочности, мастерства на грани ремесленной ловкости.
Нечто подобное - в рисунках того же времени. Например, в графическом Портрете графа Сергея Петровича Бутурлина (1824). Уже знакомое нам виртуозное рисование: ни одного неточного или лишнего штриха, все изумительно красиво, элегантно и при этом просто. Каждая прядь волос заботливо уложена, мундир сидит как влитой. И какая выправка, манера держаться! Как тонко усвоена этим, в сущности, юнцом маска холодного высокомерия и недоступности!
Читать дальше