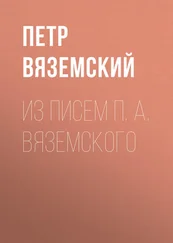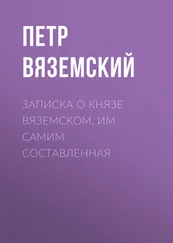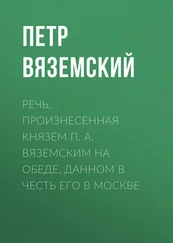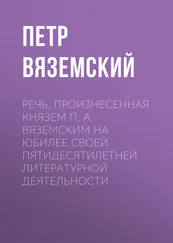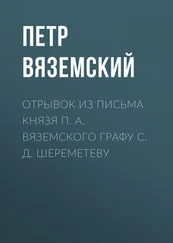Тургенев князю Вяземскому.
23-го апреля. [Петербург].
Отдай приложенную табатерку Мерзлякову. Ты замолчал, и моя арфа не бренчит или только вполголоса. Будешь ли сюда? Мы сбираемся к половине мая быть у вас, но не знаем еще, как это устроить. К половине июня должны возвратиться сюда или даже еще к десятому. Где же встретимся?
Сергей уже отпущен в чужие краи. Я ожидаю возвращения государя, чтобы просить увольнения в отпуск. Хочется успеть в августе напиться вод или накупаться и прокатиться по Рейну; в туманную Швейцарию будет уже поздно на этот год. Проберемся в местечко Париж или в Италию, а там опять или к водам, или прежде в Швейцарию.
Вчера кончил разбор твоих писем, стихов, прозы; нагрузил ими три портфеля, кроме того, что хранится в тихвинском уезде; там главное. Лучшее твое бессмертие в моих руках. В печати ты сам себя не стоишь. Портфель с письмами Карамзина, Дмитриева, Батюшкова, Жуковского также vaut son pesant d'or. Со временем издам «Manuel du style épistolaire». Жаль, что нельзя взять этого с собою! Боюсь зажиться там, а грустно без дружбы и любви скитаться по земли.
Напиши похвалу старости: вчера видел в первый раз князя Лопухина, и следов горести не осталось: и её, как дочери, как будто не бывало.
679.
Тургенев князю Вяземскому.
26-го апреля. [Петербург].
Письмецо твое получил и Козлову твое мнение сообщил. Он в восхищении от успеха «Чернеца». И денег Жуковский собрал кучу. Перстень, табатерку, по 500 рублей от государыни и великих князей получил, и даже Уваров подписался на сто экземпляров. Я сколько посещений дамских! И даже святой отец Магницкий пришел, но с критикою на смерть Чернеца. Желая отомстить ему, Козлов начал хвалить меня, но не тут-то было. Магницкий перещеголял его дружбу в похвалах: и он не знает ничего в сравнении со мною! Между тем, сказывают, уезжает в Казань. Экземпляров нет уже ни одного: довольствуйся тем, что имеешь. У Полетики возьму книги, если отдаст. От брата получил еще письмо из Неаполя: он переменил вегетабильную диэту на другую, и здоровье опять несколько переменилось на худшее, и он опять принялся за зелень. Вот как неверно выздоровление, и, следовательно, скорое его возвращение сюда. Нет, скорее «Dahin, dahin, wo die Citronen und die (Josimdheit blühen»! Выедем отсюда, вероятно, 5-го мая, но может быть и позже. Прости, до завтра! Отдай Ивану Ивановичу приложение и полюбуйся скромностью директора Ассигнационного банка на конце диссертации. Дрянь и в душе, да и в уме. Получили ли письмо брата к Ломоносову?
680.
Тургенев князю Вяземскому.
28-го апреля. [Петербург],
«Waesemsky lias the force of proverbe in most of bis compositions. He has had the boldness to create, and the success to introduce many new words and new forme of language» («The Westminster Review», № 1, 1824 г., стр. 98). Вот что о тебе, благодаря «Полярной Звезде» прошедшего года, пишут в Англии.
Мы сбираемся отсюда к вам 5-го или 6-го мая, но это еще не так верно, как то, что Булгарин – паяц литературы. Видел ли ты, чего он требует. от историографа? Вынь да положь великих людей в старой России! Карамзин не сердится и не может на него сердиться, но за публику нашу огорчается; по поляк этого знать не должен. Ему то и на руку.
Я читаю пять или шесть англинских Review. Много о России, но все прадтствуют, все страшат нами; один только догадался и хотя много врет в суждениях, но заключение о могуществе России довольно справедливо.
Очень ты меня обрадовал строками о стихах Козлова, и и тотчас ему их передал; но с тобой несогласен. В них, конечно, много глубокого чувства, но разве это не трое в одном, то-есть, Жуковский, Пушкин и Байрон в Козлове, или лучше он из них, а те самостоятельны. Замечание сие не мешает Козлову иметь гораздо больше истинной чувствительности и души, нежели в Пушкине, но воображения меньше. Те творят; он кроит из готового, то-есть, из них, хотя с примесом, и большим, своего. Похвалив талант Пушкина, я не меньше, особливо с некоторого времени, чувствую омерзение к лицу его. В нем нет никакого благородства. По душе он для меня хуже Булгарина. Этот поляк безмозглый, да и только; чего от него требовать, и почему Карамзин должен быть для него священ? Чем более возвышает он собою Россию, тем более должен бесить польского паяца. Но Пушкин учился читать по страницам Карамзина, но Пушкин плакал, и не раз, за столом его, но Карамзин за него рыцарствовал. Я ни слова не сказал о Карамзине, просветителе России в некотором смысле; ибо Пушкин щеголяет не русским чувством и думает, что сердце у него не лежит к России. Ему хочется быть и в этом Байроном, но и Байрон имел друзей в Англии; он любил Мура, а Пушкин поднял руку на отца по крови и на отца Карамзина. Все это между нами совершенно: вырвалось из души, которой не вижу ни в стихах, ни в душе Пушкина.
Читать дальше