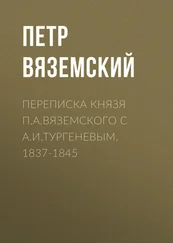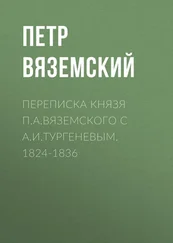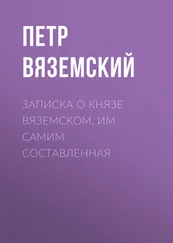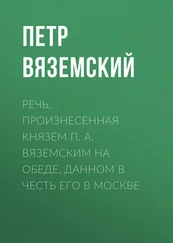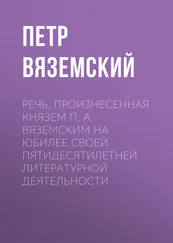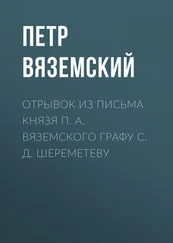Петр Вяземский
Князь Петр Борисович Козловский
На днях получено здесь печальное известие из Бадена о смерти [1] Князь Козловский умер в Баден-Бадене 14(26) октября 1840 года.
князя Петра Борисовича Козловского, в то самое время, когда приятели его, ободренные слухами о благоприятных успехах лечения его, надеялись на скорое и совершенное его выздоровление. Сия утрата не из числа тех, которые внезапно пресекают и поглощают в себе непосредственное действие на современные события, на лица и отношения окружающего мира. Смерть его оставляет все и всех в том же виде и положении, как и при жизни его. Ни в сфере государственной деятельности, ни в литературе, ни на каком другом гласном общественном поприще он не занимал высшего места, места ему особенно присвоенного. Никакие обязанности, никакая ответственность собственно на нем не лежали. От него ничего не ожидали, ничего не надеялись. Он жил, так сказать, в себе и для себя, жизнью личною, отдельною, которая отражалась, так сказать, в одном тесном очерке, обведенном собственною его тенью, тенью частного и обыкновенного человека. Но не менее того смерть его есть утрата незабвенная и невозвратимая. Дело в том, что хотя и не был он действительным членом общества, а только почетным, что лица и события шли мимо его и без него, что он ничего не совершил вполне, не посвятил себя ни одному из тех общественных и нравственных служений, которые дают известность, почетность, власть и славу, но в одном отношении был он полным представителем одного ясного и высокого понятия: он был вполне человеком необыкновенно умным, необыкновенно просвещенным, необыкновенно добрым. Сего довольно, чтобы иметь верное, неотъемлемое место в частной современной, если не во всеобщей истории человечества и верное и неотъемлемое, право на любовь и уважение ближних, на слезы и скорбь благодарной памяти. Кто может исследовать пути Провидения и пружины, коими оно действует для направления нас к предназначенной цели? Но если средства сокрыты от нашего близорукого зрения, то самая цель сия ясна для нашего внутреннего убеждения и сознания. И как же не быть убежденным, что жизнь, подобная жизни князя Козловского, одаренная такими прекрасными свойствами, способностями и силою, хотя, впрочем, и не призванная к явному и плодовитому действию, но все же не могла она быть вотще брошена Провидением на землю и не отозваться благим сочувствием в чем-нибудь и в ком-нибудь. След этой жизни не отразился в летописях общества, отмеченный особенным именем и заглавием; но действие ее темное, безыменное не менее того существует и выразилось где-нибудь и когда-нибудь во всей своей полноте и силе. Кто скажет, который именно лишний из числа безвестных и подземных родников, которые сливаются воедино своими струями и образуют одно из тех величественных и живописных озер, коими славится окрестность и любуются прохожие?
Нет, князь Козловский жил недаром.
Частью шутя, но частью и с твердым убеждением он уверял, что ему определено на земле одно назначение, что он облечен одним призванием: что он послан был Провидением говорить. И в самом деле, кто имел случай слушать его, кто имел счастие испытать, сколько было силы, увлекательности и прелести в речи его, тот готов согласиться с ним, что он точно угадал призвание свое. Дар слова был в нем такое же орудие, такое же могущество, как дар поэзии в поэте, дар творчества в художнике. Оратор, не из тех, кому нужна трибуна, приготовленная сцена, приготовленная публика, которые, ораторствуя, играют роль или несут повинность, он был оратором ежедневным, ежеминутным, всегда готовым, всегда послушным внутреннему или внешнему призванию, всегда повелительным над вниманием своих собеседников. Вопросы истории, политики современной, науки, литературы, общежитья, нравственности равно отзывались в нем, равно потрясали тонкие и раздражительные фибры его интеллектуальности и разрешались внезапными светлыми и живыми импровизациями. Все соединилось, чтобы дать слову его жизнь, силу и краску. Ум его был проницательный и восприимчивый. Он мог и углубляться в предметы, и вместе с тем слегка и приятно скользить по одной их опушке. В словах его были и достоинство ценности, и красивость отделки, то есть мысль и выражение. Вспомогательные средства были также обильны: большая начитанность, тесное знакомство со всеми европейскими знаменитостями и память удивительная. Ко всему этому прибавьте смелость своих мнений; вопреки отзыву Талейрана, что слово есть маска мысли, в нем слово было живой, горячий отпечаток мысли его, какая ни была бы сия мысль.
Читать дальше