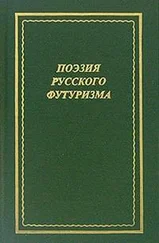При жизни Михнов выражал надежду, что живопись его сохранят друзья. На уровне уже легенды передаются сказанные им последние слова: «Сохраните мои работы». Они находят подтверждение в воспоминаниях Приходько, который был при Михнове в последний день его жизни. В воспоминаниях Приходько это судорожный шепот, обращенный к нему: «Спаси мои работы, спаси мои работы, спаси мои работы». Я разговаривал с некоторыми друзьями об утрате части картин. Никто ничего не знает, концы потеряны. Я не имею права кого-либо подозревать, разговоры с друзьями велись порознь, с глазу на глаз. Тем более (упаси бог!) я не предполагаю никакого расследования. Но факт утраты картин остается для меня фактом, и это грустно, очень грустно. Совсем не хотелось бы, чтобы фатальная предопределенность, чувство которой испытывал Михнов, неумолимо действовала после смерти художника по отношению к его произведениям. Будем надеяться (иного не остается), что утраченные работы живы-здоровы, что их действительно спасают, они не попали в случайные руки и готовы занять место в надежных галереях и хранилищах.
Евгений Михнов умер 2 октября 1988 года в больнице. Похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.
Вопросы, вопросы. Заключения не будет
Надеюсь, простят мне читатели еще один, последний, сугубо личный пассаж — отступление.
В моей жизни, в той стадии ее, которую называют сознательной жизнью, случились четыре события, взрыва, существенно повлиявшие на мое отношение к миру, на мои философско-художественные представления.
В философии это Артур Шопенгауэр.
В прозе исторического направления — Александр Солженицын.
В поэзии — Борис Пастернак.
В живописи — Евгений Михнов.
Те, что стоят выше, «самые-самые» (мыслители, писатели, художники), остаются на своих божественных местах, они «вечные спутники»: даже и не припомнишь, когда конкретно явились и остались в нас навсегда. А эти четверо были для меня именно взрывом, непредвиденным даром судьбы.
Сегодня читатели и зрители другие, они гораздо отчетливее сознают, какой подарок хотели бы получить. Изумление, которое вызвала выставка Михнова на Полтавской, вряд ли может повториться. Но и сегодня искусство Михнова может стать для кого-то событием жизни, я это очень даже допускаю, только не буду с безусловной уверенностью утверждать.
Ау, Михнов! Нет ответа.
Женя Сорокина, узнав от меня, что именно так я намерен закончить книгу, пришла в недоумение. Что же, живопись Михнова остается безответной? Не так, Женечка. Михнов уже вошел и еще надежнее войдет в ряд самых значительных художников XX века. По-моему, он лучший из абстракционистов, потому что абстракционист он крамольный, переступающий границы чистой абстракции, не абстракционист. Только что об этом бесконечно говорить? Кандинский или Малевич были раньше, они первооткрыватели, и это им прежде всего засчитывается. Главное в том, что Михнов упорно сохранял и утверждал станковую живопись, создавал картины для размышления, открывая простор для активного зрительского самовыражения. Это очень много.
«Жизнь значительна, потому что она серьезна», — говорил Пастернак. Евгений Михнов, его судьба и его картины дают прекрасную возможность лишний раз убедиться, какое это серьезное, требовательное к человеку и какое грустное, непоправимо грустное занятие — жизнь. Живопись Михнова ожидают впереди непредсказуемые зрители, совсем другие, которых и представить себе трудно, — и неизбежные драматические испытания, новые обсуждения, восторги и столкновения перед этими странными произведениями, которые и останутся странными, поскольку неисчерпаемы таинства бытия. Чего еще можно пожелать великому художнику! Я ставлю точку в книге на совмещенной ноте спокойной уверенности за судьбу Михнова-художника и необъяснимой грусти по поводу этой же самой судьбы.
Прощай, Михнов. Спасибо, дорогой.

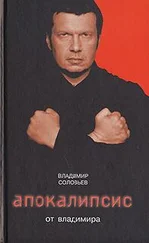
![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/26247/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo-thumb.webp)