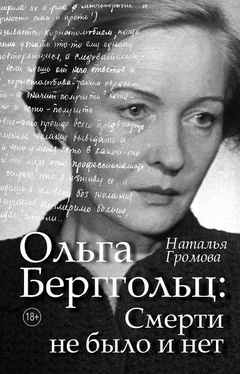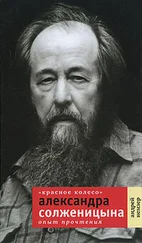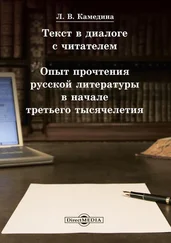Он же сначала уехал на Кавказ, собирать материал для романа "Баташ и Батай", а затем поселился под Москвой в Доме писателей в Малеевке. "Самое дорогое, что у меня было в жизни, – это ты… Хорошо бы жить вместе с тобой, вместе, вместе, вместе…" – писал он ей в сентябре 1939 года с Приэльбрусья.
А мать, которая не знала всех обстоятельств жизни дочери, передавала в письме к Ольге горькие слова, случайно услышанные от Муси: "Одна, совсем одна".
Похоже, ни Николай, ни Ольга о намерении Либединского отнести письма Молчанова в органы не знали, иначе Ольга непременно отозвалась бы на это в дневнике. Муся уничтожила главные документы, а о перипетиях с письмами вспоминала глухо.
Ольге вернули дневники с красными пометами. Каково ей было прикасаться к страницам, исчерканным красным карандашом!
"Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят – "живи"… Выживу? Все еще не знаю… Произошло то же, что в щемящей щедринской сказке – "Приключения с Крамольниковым": "Он понял, что все оставалось по-прежнему – только душа у него запечатана"… Со мной это и так, и все-таки не так. Вот за это-то "не так" я и хватаюсь… Действительно, как же я буду писать роман, роман о нашем поколении, о становлении его сознания… когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из до-тюремного равновесия… Все, или почти все, до тюрьмы казалось ясным, все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуровлено, многое поменялось местами, многое перегублено… А м.б., это и есть настоящая зрелость? М.б., и не нужна "система"? М.б., и раздробленность-то такая появилась оттого, что слишком стройна была система, слишком неприкосновенны фетиши, и сама система была системой фетишей? Остается путь, остается история; остается наша молодость, наши искания, наша вера – все остается. Ну а вывод-то какой мне сделать в романе, чему учить людей-то? Екклезиастическому – "так было – так будет"? Просто дать ряд картин, цель размышлений по разным поводам, и все? А общая идея? А как же писать о субъекте сознания, выключив самое главное – последние 2–3 года, т. е. тюрьму? Вот и выходит, что "без тюрьмы" нельзя, и "с тюрьмой" нельзя… уже по причинам "запечатанности". А последние годы – самое сильное, самое трагичное, что пережило наше поколение, я же не только по себе это знаю…
О нет! Нет, хотя я не хочу признать себя и побежденной. Еще, все еще не хочу… "Я внутренне раздавлена тюрьмой", такого признания я не могу сделать, несмотря на все бреши в душе и сознании. Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена… Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страшно хочется мне сказать: "родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то… (все рассказать!). Это не изменило моего отношения к нашим идеям, к нашей Родине и партии. По-прежнему, и даже в большей мере, готова я отдать им свои все силы. Но все, что открылось мне – болит и жарит во мне, как отрава. Мне не понятно то-то и то-то. Мне отвратительно то-то. Такие-то вещи кажутся мне неправильными… Вот я вся перед вами, со всей болью, со всеми недоумениями моими". Но этого сделать нельзя… Это было бы самым глупым идеализмом. Что они объяснят? Будет – исключение, осуждение и, вероятнее всего, опять тюрьма… О, как это страшно и больно!.. Я говорю себе: нет, довольно, довольно! Пора перестать мучиться химерами! …Ах, нет, надо работать, работать, ведь полезное же дело делаю… Потом погрузиться в ребенка, если будет… Мне трудно жить. Мне очень трудно жить, товарищи… Здесь даже половины этих трудностей не описано… Только сознание, что делаю нужное, полезное для людей дело, – поддерживает меня…"
За время тюрьмы Ольга изменилась кардинально. Не было больше фанатичной коммунистки, оправдывавшей любые преступления власти высокой целью. В словах дневника – и растерянность, и ужас перед открывшимся новым знанием о стране, о людях, которым верила. Но главное, это понимание реальности, где поступки имеют собственную ценность, и предательство – это предательство, а ложь – это ложь, без всяких объяснений и оправданий.
…А я бы над костром горящим
Сумела руку продержать,
Когда б о правде настоящей
Хоть так позволили писать.
<���…>
Меж строк безжизненных и лживых
Вы не сумеете прочесть,
Как сберегали мы ревниво
Знамен поруганную честь.
Теперь она знает цену обвинениям. "О да, я иная, совсем уж иная!" – восклицает Ольга в стихах памяти Бориса Корнилова, ясно представляя, как он шел после ареста в камеру, как его пытали, мучили.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу