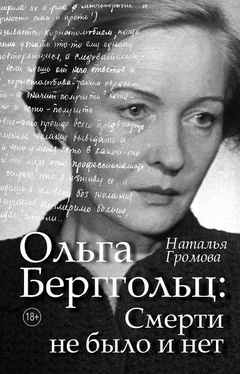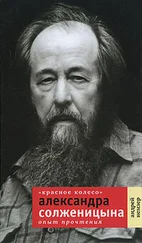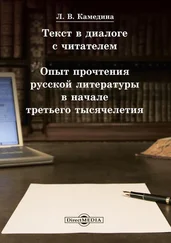Ты напрасно так тоскуешь. Глупости все это. Кустарничать и интриговать не буду. И ты не пиши, ни заявлений, ни жалоб, ни требований: пока я дома, будет сделано все, что нужно по закону. Когда меня не будет дома – придется тебе заняться этим, сообщив обо всем в парторганизацию мужа, иначе ему плохо придется, как мужу моей сестры, например, как жене моего брата и некоторым другим. И это совершенно независимо от государственного аппарата – это внутрипартийное дело.
Адрес Оли известен нам официально. Ты мне не пиши – очень трудно отвечать. И не приходи ко мне, если приедешь. И вообще – пока не ввязывайся в это дело, помни о сыне. Н. Молчанов.
Да! Если вернется Оля, ничего не говори об исполненном долге – почему? – скажу, когда-нибудь на закате дней.
Обратим внимание, Молчанов настаивает: "…не пиши ни заявлений, ни жалоб, ни требований: пока я дома, будет сделано все, что нужно по закону. Когда меня не будет дома – придется тебе заняться этим, сообщив обо всем в парторганизацию мужа, иначе ему плохо придется…" "Пока я дома" – прозрачный намек на то, что и он может быть арестован.
Но, как уже сказано, существовало первое, а может быть, и второе письмо от Молчанова, где он в резкой манере говорил об обстоятельствах ареста Ольги и ее тюремщиках. К этим текстам отсылают слова "оскорбил", "ты ругаешь меня за "клевету"", "оскорбительный тон прежней записки".
Письма эти уничтожены. Мария Федоровна умалчивает о них в своих воспоминаниях тех лет по вполне понятным причинам. Михаил Лебединский, который расшифровывал огромную переписку матери и отца, заканчивает ее следующими словами: "…В связи с арестом сестры матери Ольги Берггольц, ранней весной 1939 года произошли те трагические события, которые в конечном счете, привели к распаду этого брачного союза к середине 1940 года. Переписка этих лет носит односторонний характер, отец пишет, мать не отвечает…".
Из этих косвенных признаний складывается вероятная картина, которая подтверждается и письмами Либединского.
4 июня, на следующий день после освобождения Ольги Берггольц, Либединский писал жене: "Максюша! Кроме того, что я рад за Ольгу, за тебя, за Марию Тимофеевну, – я рад за себя! Едва ли ты представляешь себе, каково мне было все это время, – да и нелепо было бы это от тебя < нрб., стерто несколько слов > на твоих плечах – чтоб ты взяла груз моих переживаний. Но сейчас, сейчас я могу выпрямиться и прямо говорить то, что я не хотел и не мог тебе говорить в эти для всех нас такие тяжелые дни. Я не могу примириться с теми отношениями, которые у нас с тобой сложились. Я лучше предпочту никакие отношения, но иметь вместо настоящего брака какой-то странный адюльтер между нами, бывшими раньше мужем и женой, я не хочу. Ты два раза не ответила мне на мой вопрос, любишь ли ты меня, – и когда в последний раз не ответила (по телефону из Москвы) – у меня в душе словно оборвалось что-то. Ладно – пусть будет так – сказал я себе. Сейчас я ничего говорить не могу, но когда вернется Ольга… И тут же я говорил себе, и в Нальчике, после наших с тобой споров о письмах Николая и моих поступках (курсив мой. – Н. Г .): "Когда вернется Ольга!"
Вот только что я сходил в обком и высказал свою точку зрения на известного тебе кабардинского писателя Шогенцукова. Я пришел к заключению, что он не был муллой, а предположения о том, "вдруг он не есть тот, за кого выдает", при всей вероятности этого (а некоторая вероятность этого есть), все же является перестраховкой. Линия в отношении его будет выправлена. Ты знаешь, что я только с ним познакомился, что я рисковал, поступая так. Но так я делал всегда. Я иногда бывал беспощадным, но никогда бездушным. Н. Молчанов может думать обо мне все что угодно – ты знаешь, как я его самого расцениваю. Но ты – знающая меня в течение стольких лет! Неужели я удовлетворюсь жалким подобием брака с тобой – брака, основанного на взаимном сговоре умалчивать по самым острым вопросам жизни? Я тебя люблю – очень люблю – именно потому такого рода отношения я мог переносить только временно, только до возвращения Ольги. Зачем я пишу тебе все это? Ведь, казалось бы, ты исчерпывающе изложила, и много раз изложила, свою точку зрения. Надеюсь ли я, что ты ее изменишь. Мало надеюсь, вернее, совсем почти не надеюсь. Но если бы я посчитал себя в деле с письмами неправым (курсив мой. – Н. Г .), я не стал бы переползать на твою точку зрения, я прямо бы сказал об этом. Думаю, что так же и ты.
Именно потому, что я тебя люблю, – для меня вопрос той или иной оценки тобой моего поступка – есть вопрос крайне важный. Ведь ты же знаешь обо мне все – и есть поступки, которые, я сам это знаю, являются моими срывами и моими ошибками, – и я сам говорил тебе и давал отрицательную оценку себе. Но именно потому, когда я знаю, что поступил правильно, я должен иметь твое одобрение. Это вопрос чести, не внешней – для других чести, – а самой дорогой и нерушимой, внутренней чести (помнишь Сашино: "жил честно")… У меня бывали минуты слабости, упадок сил душевных и физических, в тех тяжелых условиях, которые были той дорогой передового человека, коммуниста, – которую я себе избрал, – но я не сдавался перед врагами, не выдавал друзей и без всяких фраз выполнял те элементарные обязанности, которые надлежит исполнять советскому гражданину, – именно к такой обязанности меня вынудили письма Николая (курсив мой. – Н. Г .). Впрочем, ты все тут знаешь. Новое для тебя только то, что я не могу и не хочу продолжать наши отношения на том социальном базисе, на котором они сейчас находятся. Если дальше умалчивать, так этот базис будет только съеживаться – медленно и нехорошо…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу