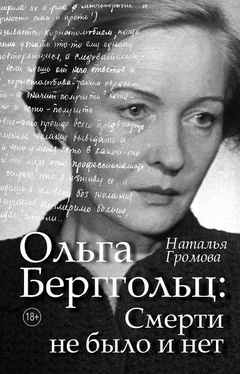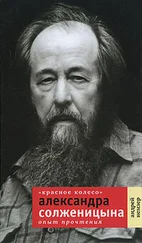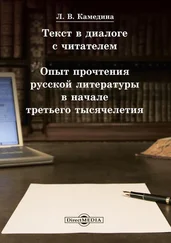Теперь – ты прав,
мой первый и пропащий… —
кается она в дневнике от 13 марта 1941 года:
"Перечитывала сейчас стихи Бориса Корнилова, – сколько в них силы и таланта!
Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки.
Завтра ровно пять лет со дня ее смерти.
Борис в концлагере, а может быть, погиб.
Превосходное стихотворение "Соловьиха" было посвящено им Зинаиде Райх, он читал его у Мейерхольда.
Мейерхольд, гениальный режиссер, был арестован и погиб в тюрьме.
Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после [смерти] ареста Мейерхольда, и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек.
Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть…"
Ей всего лишь тридцать, а она пишет завещание потомкам, отдавая себе отчет в том, что и советская литература, и советская печать той поры создадут о ее поколении превратное представление:
Нет, не из книжек наших скудных…
…и я не могу иначе…
Лютер
Нет, не из книжек наших скудных,
подобья нищенской сумы,
узнаете о том, как трудно,
как невозможно жили мы.
Как мы любили – горько, грубо.
Как обманулись мы, любя,
как на допросах, стиснув зубы,
мы отрекались от себя.
И в духоте бессонных камер,
все дни и ночи напролет
без слез, разбитыми губами
шептали: "родина… народ…"
И находили оправданья
жестокой матери своей,
на бесполезное страданье
пославшей лучших сыновей
…О, дни позора и печали!
О, неужели даже мы
тоски людской не исчерпали
в беззвездных копях Колымы?
А те, что вырвались случайно, —
осуждены еще страшней
на малодушное молчанье,
на недоверие друзей.
И молча, только тайно плача,
зачем-то жили мы опять —
затем, что не могли иначе
ни жить, ни плакать, ни дышать.
И ежедневно, ежечасно,
трудясь, страшилися тюрьмы,
и не было людей бесстрашней
и горделивее, чем мы.
Тюрьма во многом изменила образ мыслей Ольги, ее мировоззрение. Отныне она будет оперировать понятиями "Родина" и "народ", которые становятся для нее в известной степени не социально-классовыми, а скорее духовно-историческими. Поэтому современники ее "И находили оправданья / жестокой матери своей…" – "Затем, что не могли иначе / Ни жить, ни плакать, ни дышать". Это откровенная констатация того замкнутого круга, того внутреннего надрыва, из которого невозможно выйти.
Мы строим прекрасный мир, наши цели благородны, мы опираемся на лучшие человеческие качества, – но почему же вокруг голод, репрессии, доносы, самоубийства, тюрьмы и расстрелы?
Ответа не было не только у Ольги, но у всего ее поколения.
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Ольга Берггольц
Война сняла все вопросы.
Война, как это ни парадоксально, для Ольги стала настоящим освобождением.
Два предыдущих года были периодом затяжной депрессии. Ее стихи с трудом брали в журнал "Звезда" (о тех, что писались в тюрьме, не могло быть и речи!). В марте 1940-го она живет в Доме творчества в Детском Селе, где неподалеку в санатории умерла ее Ира, в том самом Доме творчества, откуда ее забрали в тюрьму, – и пишет о внутренней смерти, наступившей с гибелью дочери и гибелью "общей идеи". Лечиться у психиатра, думает она, не имеет смысла, потому что у нее все отнято. И что страшнее всего, надо продолжать жить. Даже короткий роман в Коктебеле с молодым поэтом Сергеем Наровчатовым лишь на время заряжает ее энергией. Теперь все чаще в жизни Ольги как спасение от невыносимой реальности появляется вино, в котором топится ненадолго тоска.
И вот – война.
Никто не знал, что их ждет. Готовились воевать, сражаться, гнать врага от своих границ. В первые дни общая картина представлялась многим скорее жизнеутверждающей: война продлится недолго, к зиме мы победим.
Николай Молчанов, скрыв свой тяжелый диагноз, 26 июня 1941 года ушел на фронт, но через месяц его комиссовали.
Ольга потом утверждала, что, когда Николай вернулся с фронта, они "влюбились в друг друга с какой-то особой обостренно-нежной, предразлучной влюбленностью… Помню, стояли мы один раз с ним на солярии, бомбежка была дикая, было светло от пожаров как днем, и этот свист от бомб – подлый и смертный. Я изнемогала от страха, но стояла, я же была комиссаром дома. И Коля вдруг подошел ко мне, взял мое лицо в ладони, поцеловал в губы и сказал: "Знаешь, если один из нас погибнет, то другой обязан досмотреть трагедию до конца", я ответила: "Ладно, Коля, досмотрю"".
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу