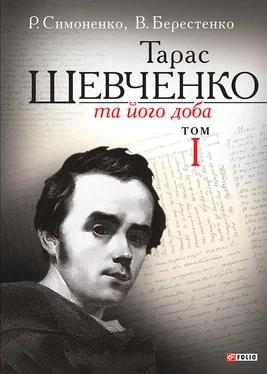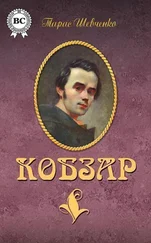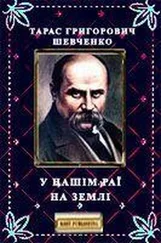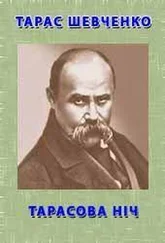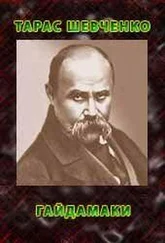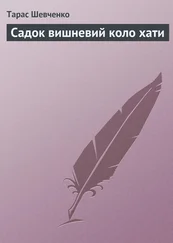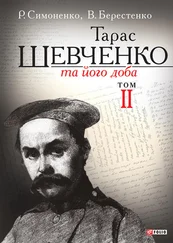Засновник сучасної російської літератури Пушкін про народність
«Начнём с того, – нагадує дослідниця, – что ещё задолго до выхода «Кобзаря» в русских литературных 79кругах очень много разговаривали о народности, и Пушкин в 1825 году задумал даже посвятить этому вопросу целую статью, в которой он дал намёки первого правильного определения народности. Закончена статья не была, но оставшийся отрывок «О народности в литературе» имеет для нас огромное методологическое значение. Пушкин пишет:
«С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность.
Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории, другие видят народность в словах, то есть радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения».
Між тим, у пізнішому виданні «Полного собрания сочинений А. С. Пушкина» – уривки статті Пушкіна подаються в інший спосіб: замість виданої другої частини речення з існуючої її другої частини – останнього абзацу – додано кілька нових оригінальних абзаців:
«Не мудрено отъять у Шекспира в его «Отелло», «Гамлете», «Мера за меру» и проч. – достоинства большой народности; Vega и Кальдерон 80.
…«не выбранная тема («из отечественной истории»), не обороты и формы языка решают вопрос о народности; но что же тогда? В своём отрывке Пушкин не развернул полностью ответа, но оставил ряд намёков, по которым линия его мысли ясна. У народа «есть образ мыслей и чувствований», «есть тьма обычаев, поверий и привычек», «климат, образ жизни, вера»… В поисках точного определения Пушкин пытается расширить понятие «народность», прибавляет к «языку и теме» образ мыслей и чувствований, обычаи, поверия и т. д. Эти поиски его для нас глубочайшим образом поучительны. Ведь ясно, что порочный круг, который он разрывал, – есть та самая «самобытность», тот самый «русский» или иной «дух», тяга к консервации собственной старины, которые в искусстве приводили к проповеди крайнего национализма. Именно в этом порочном кругу мыслили «народность» Тараса Шевченко и Костомаров, и Кулиш. Для них его поэзия как бы безликое выражение всего того, чем был украинский народ «самобытен», как бы детское дыхание самой этой самобытности, которую они хотят удержать, как она есть, и на которую они смотрят с некоторой хозяйской опекой, как на своё историческое, пассивное добро.
Добролюбов Чернишевський визначають зміст народності поезій Шевченка
Иначе представлял себе народность Тараса Шевченко Добролюбов, блестяще развивший тезис Пушкина. По Добролюбову, вовсе не только исторический опыт народа и его прошлое определяют степень народности художника, а живое бытие народа в настоящем. Если художник сейчас живёт с народом, выражает его современные нужды и стремления, выражает от себя, но за целый народ, тогда и только тогда он народен.
Чернышевский в своём определении народности Шевченко пошёл ещё дальше Добролюбова. Он считал, что жить стремлениями своего народа и выражать их в искусстве – значит в какой-то мере пробивать ему дорогу в будущее, закладывать основы культуры этого будущего, вести за собой свой народ. Знать его прошлое, жить с ним в настоящем и продвигать его в будущее – вот как бы триединая формула связи художника с народом. Чернышевский нигде не говорит этого прямо, но подразумевает, когда указывает – с изумительным чутьём провидца истории – на огромное завоевание, какое сделал Шевченко в области украинской культуры, на то оружие, какое он выковал в своих гениальных твореньях.
Что же это за оружие? Одно из главнейших для общества – родной язык. Молодой, гибкий, самостоятельный, созданный Т. Шевченко язык стал орудием украинской культуры. Украинские националисты при всей их сентиментальной любви к самобытности не очень уважали язык крестьянства, чистую полтавскую мову, они позволяли себе коверкать её, прибегали к ней лишь для «обихода» и «couleur locale’я 81», допускали в письме произвол и неграмотность, а поэтому не могли и не хотели критически отнестись к тому, что делала группа галицийских буржуазных националистов на Западе. Эта группа имела свои печатные органы, издававшиеся на особой смеси местного испорченного украин ского с литературным русским и церковнославянским языком. В то время как язык Тараса Шевченко был голосом народной массы, крестьянства, эта галицкая смесь не имела в себе органических корней, выражала ряд случайных и перекрёстных внешних влияний преимущественно городского, мещанского или «гелертерского» сословия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу