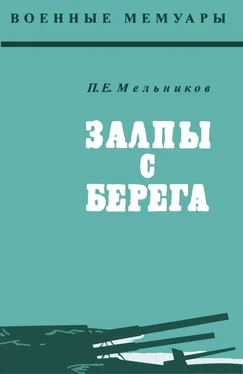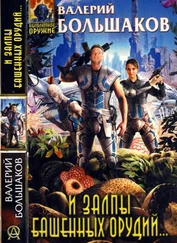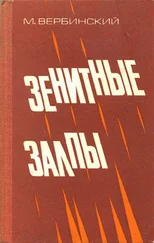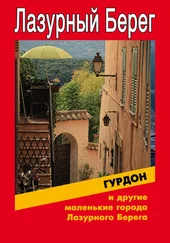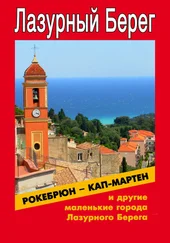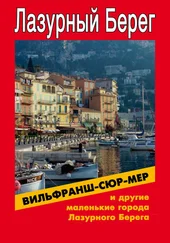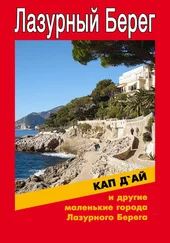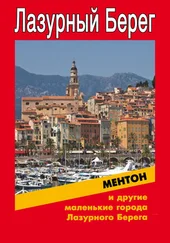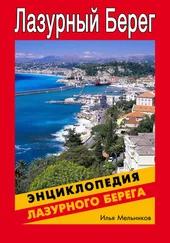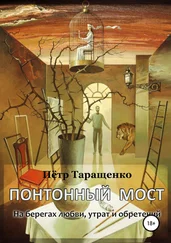Каждое утро нам приносят газеты. Точнее, газету «Боевой залп». Эта маленькая двухполоска Ижорского сектора, издаваемая в Лебяжьем, очень популярна у нас. Флотскую и центральные газеты мы получаем в небольших количествах, а главное, редко и нерегулярно. Иногда доставляют сразу пачку за всю неделю. Ничего не попишешь — блокада. Радио удается слушать не всегда и не всем, А «Боевой залп» хоть и скупо, но аккуратно информирует нас о событиях на фронтах и на всем белом свете. Потому и отношение к этой газете серьезное.
С интересом узнаем мы из нее и о боевых буднях нашего сектора, об отличившихся бойцах и командирах. Хозяйство наше не маленькое, и без газеты трудно было бы знать, чем живет ораниенбаумский пятачок, какие события происходят на нем. А знать хочется. Ведь для нас на пятачке, в «Лебяжьенской республике», конкретно и зримо сосредоточены все черты родной страны, всего того, что находится за огненными линиями фронтов и полосами оккупированных территорий, всего, что выражается в двух емких словах: Большая земля. И потому события местного масштаба наполнены для нас особой значительностью.
Мы хорошо знали таких сотрудников «Боевого залпа», как писатель Лев Успенский, художник Лев Самойлов. Частыми гостями были у нас корреспонденты газеты В. Милютин, Г. Павлятенко и Д. Лизарский. Эти неутомимые журналисты появлялись то на батареях Красной Горки, то у связистов, то на переднем крае среди разведчиков и пулеметчиков. И результатом каждого такого выхода были корреспонденции и репортажи в «Боевом залпе», которые с помощью газетчиков писали краснофлотцы, сержанты и командиры.
Вот что писалось, например, в одной из боевых корреспонденции о вылазке разведотряда Ижорского сектора под командованием капитана Г. В. Комова.
«Скрытно, в маскировочных белых халатах отряд шел по льду залива. Под покровом ночи лыжники незамеченными вышли в тыл противника и к рассвету прибыли в заданный район, где уточнили боевую задачу. Отряд разделился на три боевые группы.
Одну из групп, которой предстояло разгромить вражеский штаб, вел в бой сержант Пушкарев. Краснофлотец Остроминский из состава этой группы ловким броском снял вражеского часового. Завязалась жаркая схватка. Сержант Пушкарев бросил несколько гранат в окно штаба. Фашисты устремились к двери, но брошенная Моисеевым граната настигла их.
Моряки ворвались в помещение штаба, штыком и прикладом добили оставшихся в живых гитлеровцев. По деревне раздавалось громкое «ура». Фашисты, бросая оружие и снаряжение, в панике бежали из деревни.
Политрук Кошкин с другой группой лыжников внезапно атаковал вторую деревню, а сержант Шиманский
со своим отделением уничтожил три дзота вместе с их расчетами. Особо отличился в бою этой группы краснофлотец Климкин.
В результате внезапного налета лыжников было истреблено более ста фашистских солдат и офицеров, уничтожено 5 дзотов, противотанковая батарея и склад с боеприпасами; захвачены трофеи: 6 пулеметов, 7 автоматов, 16 винтовок, ценные документы и письма врага».
Разведотряд, о котором писала газета, был сформирован в сентябре из числа добровольцев. Первая его вылазка за «языком» окончилась неудачей. Группа моряков была раньше времени обнаружена противником. Завязалась перестрелка. Политрук Ковалев, возглавлявший группу, приказал бойцам отходить, а сам остался прикрывать их огнем. Осколком снаряда он был смертельно ранен.
Но разведчики быстро накопили необходимый боевой опыт. Их действия стали искусными и удачливыми. Только во второй половине сентября они произвели свыше десяти успешных вылазок. Не прекращали они своей боевой работы и все последующие месяцы. Их дерзкие рейды за линию фронта вызывали восхищение и добрую зависть батарейцев.
Да, полная каждодневной опасности жизнь переднего края, возможность схватиться с врагом лицом к лицу обладали большой притягательной силой. Ведь подавляющее большинство артиллеристов не видело не только фашистских солдат живых носителей пришедшего к нам в страну зла, но и тех целей, по которым мы вели огонь. И они не могли представить себе, что бойцы на переднем крае могут завидовать им, хозяевам оружия огромной разрушительной мощи.
Ну, а мне с жизнью на передовой пришлось познакомиться довольно близко. При стрельбе по береговым целям командирам батарей крупного калибра иногда (а среднего калибра — как правило) требовалось управлять огнем с наблюдательного пункта, откуда была видна цель. Иными словами, с переднего края. Это «иногда» у меня случалось довольно часто: при пристрелках реперов и новых огневых рубежей, при стрельбах, проводившихся по важным объектам и потому считавшихся особо ответственными. Наконец, в обязанности командира батареи входило изучение целей, периодическое личное наблюдение за ними. Словом, на передовую мне приходилось выбираться три-четыре раза в месяц и проводить там по нескольку дней.
Читать дальше