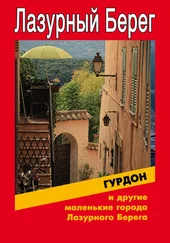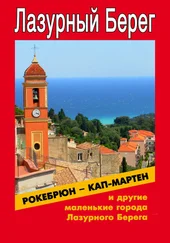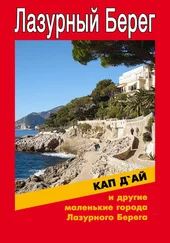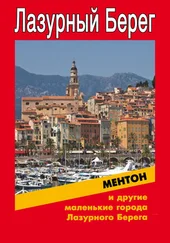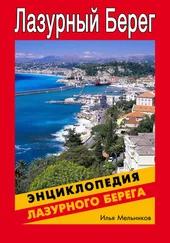Называться они стали, конечно же, кубриками. В землянках стояли чугунные печки. Дров заготавливали в достатке. Дневальные выступали в роли хранителей огня, и ни одной жалобы на холод не раздавалось. Электрики подвели в землянки ревуны, которыми подавался сигнал тревоги. До входа в блок было всего несколько десятков метров, и никаких заминок с выполнением команды «К бою!» не происходило. В общем, боевая готовность батареи оставалась не менее высокой, чем раньше.
Перебрался и я из своего командного пункта, где постоянно жить стало невмоготу. Вместе с другими командирами батарей я устроился в небольшом деревянном домике, находившемся около блока. Там размещалась канцелярия, но мы справедливо рассудили, что для нее хватит и половины помещения.
Сержанты и краснофлотцы ходили теперь питаться в большую двухэтажную столовую форта. Нашу командирскую кают-компанию тоже вынесли из бетона. Для нее приспособили деревянную постройку, стоявшую около горжи.
Впрочем, какая это была кают-компания? Не звучали в ней послеобеденные споры и шутки. Не засиживались здесь за долгими вечерними беседами, из которых молодежь черпала премудрости службы, слушая, как старшие обсуждают и тактические соображения, и житейские дела. Завтраки, обеды и ужины занимали теперь считанные минуты — порции были мизерными. А поев и не наевшись, каждый торопился уйти, чтобы не дразнить себя запахами, доносившимися из кухни.
Все резервы для улучшения питания командование форта исчерпало. Скот в подсобном хозяйстве был забит. Оставалось только несколько лошадей — наша основная тягловая сила.
Три раза в день всех красногорцев потчевали бурой горькой жидкостью. Это был хвойный настой, введенный в наш рацион по предложению врачей. Он должен был предупредить заболевания цингой и другими болезнями, связанными с авитаминозом. Кое-кто заявлял: «Пусть сами доктора пьют это пойло, а я обойдусь, хуже не будет». Таких заставляли пить в приказном порядке. Но со временем все убедились, что настой действительно помогает, и необходимость в каком-либо нажиме тут отпала.
Как ни тяжело было с едой, но мы не забывали, что ленинградцам еще тяжелее.
Как раз в эти январские дни выписался из лазарета краснофлотец Федоров, побывавший перед тем в Ленинграде. Служил Федоров на нашей батарее наводчиком. Принадлежал он к племени людей веселых, неунывающих, сердечных. Такие обычно пользуются в коллективе всеобщей любовью.
Родом он был из Ленинграда, там у него оставалась семья. И вот однажды на форт пришла телеграмма. Соседи по квартире сообщали Федорову, что его семья находится в тяжелом состоянии. Командование решило дать бойцу пятидневный отпуск домой. Получил он отпускной билет, сухой паек да еще немного продуктов, которые удалось наскрести интендантам, и двинулся в путь.
Когда он вернулся, трудно было его узнать. Ничто не напоминало в нем былого весельчака, душу общества. Это был глубоко потрясенный, убитый горем человек. Он ни о чем не мог говорить. Лишь после десятидневного пребывания в лазарете сумел: он связно рассказать о своей побывке. Комиссар попросил Федорова выступить перед нами. Тот согласился.
Собравшиеся в клубе моряки слушали своего товарища в тягостном молчании. Каждое его слово ранило, Жгло.
— Добрался из Ораниенбаума в Кронштадт, — бесстрастным голосом ронял Федоров. — Из Кронштадта до Лисьего Носа пешком по льду. Три раза в пути попадал под обстрел. От Лисьего Носа на попутной машине доехал до города.
Когда шел по улице, по радио передали: «Район подвергается обстрелу. Движение по улицам прекратить. Населению укрыться». Постоял я немного во дворе и пошел дальше. Навстречу люди попадались — бледные, опухшие, с впалыми глазами. Все были закутаны и платки и одеяла. Видел, как некоторые падали. И больше не поднимались.
Дома застал я ужасную картину. Словами трудно передать. Водопровод не работает. Электричества нет. Дров нет. В комнате стужа. Я, в общем, вовремя пришел. Жена еще дышала. Лежала на кровати и дышала. А говорить уже не могла. Посмотрела на меня и взгляд на детей перевела. Дети на другой, кровати лежали, рядышком. Бросился к ним. Сын уже мертвый. Дочка дышит. Поднял я ее головку. Она глаза не открывает. А через несколько минут и дышать перестала.
Разбил я последний стул и протопил железную печку. Ночью на город большой авиационный налет был. Я, конечно, никуда не пошел. Сидел на кровати у жены. Думал: «Хоть бы в нас залепило, и обоих разом». К утру жена умерла.
Читать дальше