Доктор-ревизор был одним из так называемых познанчиков — уроженцев Познани. Любопытное наследство оставила Пруссия Польше. Германизованные поляки переняли в известной мере прусские точность и упорство, но «фуророславика», славянская безрассудная страстность, отбросила, разумеется, сдержанность и умеренность германского характера. Капитан Стачииский, вихрем ворвавшийся в наш барак, собственноручно срывавший рубахи с пациентов, был образцом такого познанчика,— точность и трудолюбие, сдобренные невыносимой грубостью и горячностью. Он, носясь по палате, на ходу ставил диагноз, выметал, как сор, едва оправившихся людей с полузажившими ранами. Моя докторша едва поспевала за ним своей быстрой, эластичной поступью. За ней, переваливаясь по-утиному, ковыляла сестра.
Еще один миг — и Стачинский остановился у моей постели.
— Что с ним?
— Лихорадка, — быстро соврала докторша.
Но капитан уже успел выслушать сердце, посмотреть глаза, подавить живот. Он быстро поворачивается к «Гнедке», бросив ей что-то непонятное.
— Лихорадка, — крикнул он уже громче. — Пусть лихорадит в лагере.
Р-раз! — он резко сорвал с гвоздя температурный листок с моим именем и бросил его прямо в нос сестре. Символический жест — выписка из госпиталя.
Я безразлично откинулся на подушку. Но что это? Моя «Гнедка» вырывает листок у сестры и опять водружает его на гвоздик. Вот она уже опять поравнялась со Стачинским и дает объяснения о состоянии здоровья другого больного.
Не знаю, как уж это устроила «Гнедка», но я остался в госпитале. Сестра, донимавшая меня всякими придирками, теперь сразу сдала и чуть ли не сама стала делать мне всякие послабления. Вполне возможно, что она-то своими доносами — часть из них прямо относилась ко мне — и вызвала внезапную ревизию в нашей палате. И, убедившись в безуспешности своих усилий, решила больше попусту не соваться.
Никак не могу припомнить, кто раздобыл для меня дырявые ботинки и какую-то рваную шинелишку. Я начал расхаживать по палате, подсаживался то к одному, то к другому больному. Выбор был правда очень уж ограничен. Поляки меня не жаловали, с петлюровцами я почти не разговаривал, наших же осталось всего 2—3 человека.
В одном из коридоров я наткнулся на старое воззвание Пилсудского. Не помню уже содержания; в памяти остались лишь чрезвычайная напыщенность его риторики и скромная подпись:
«Начельный вудз, начельник паньства и перший маршалек Польски», т. е. верховный вождь, начальник государства и первый маршал Польши.
На прокламации был и портрет Пилсудского. Черты лица показались мне знакомыми. Где я мог видеть пана маршалка?
— Ах вот оно что!
Во время моего «путешествия» по Польше нас где-то погнали пешком за неимением свободных вагонов. Двигались мы, пожалуй, быстрее польского поезда, но идти было все же очень утомительно. На одном из поворотов дороги показалась коляска, эскортируемая всадниками. Капрал остановил нас. Группа голодных, избитых бродяг вытянулась шеренгой.
— На бачность! — прокричал неистовым голосом капрал... — Смирно!
Коляска на минуту остановилась. Насупленные брови, нависшие усы. Мрачный, презрительный взгляд скользнул по нашим жалким фигуркам.
— Большевизм! — резко-насмешливо крикнул своему соседу сидевший в коляске военный. — Эй, прентко! (быстрей) — ткнул он в спину кучера. Коляска умчалась.
Разве Пилсудского не гнали в свое время на каторгу царские жандармы? И не вспомнилась ли ему при этой встрече знаменитая Владимирка?
Не будем врываться в чужую душу. Может быть, как раз тогда он и смаковал свое обращение к украинскому народу:
«Войска польской республики несут с собой покровительство и обеспечение всем жителям Украины. Я призываю украинский народ помогать польской армии, проливающей кровь за свободу Украины...»
И тут он как раз увидел перед собой украинцев, — к тому времени у нас уже отделили овец от козлищ, великороссов от украинцев, и притом в виде, говорящем о чем угодно, только не о «покровительстве и обеспечении». О, большевистская бестактность!
Невольно приходят на память следующие строки:
«Постепенная оккупация польскими войсками означает собой гибель украинского населения, выданного на милость польской солдатни.
В Ессуполе на следующий день после прихода поляков 16 крестьян повешено без суда.
В Сокале расстрелян 70-летний старик Демчук за то, что его сын служил в украинской армии.
Читать дальше




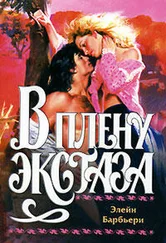


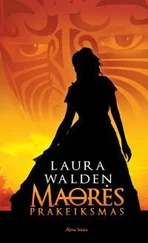

![Яна Фортуна - Искра, погружайся! В плену Янтаря [litres самиздат]](/books/437054/yana-fortuna-iskra-pogruzhajsya-v-plenu-yantarya-lit-thumb.webp)

