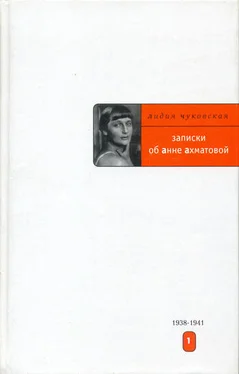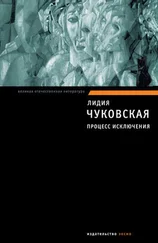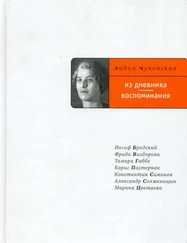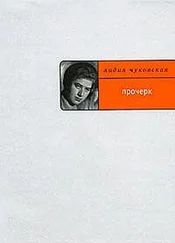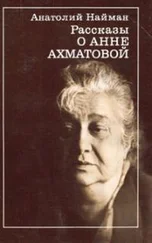Макс – Максимилиан Волошин. Похожий рассказ А. А. см. нас. 80–81.
Тата – дочка Л. Л. Жуковой.
Ледик – Владимир Григорьевич Адмони.
Речь идет о строках «Как в прошедшем грядущее зрееет / Так в грядущем прошлое тлеет» (строфа «Я забыла ваши уроки»); строки о глазах – вероятно: «Или вправду там кто-то снова / Между печкой и шкафом стоит? / Бледен лоб и глаза открыты…» – обе строфы в первой главе первой части. Хризантема и зеркало – «И была для меня та тема, / Как раздавленная хризантема / На полу, когда гроб несут»; строфу о зеркале – см. с. 394. Все перечисленные строки и строфы, их первоначальные и окончательные варианты – см. ББП, с. 358, 360, 361, 372, 434 и 439.
Раневская говорит об Игоре Владимировиче Вакаре (1906–1977), ближайшем сотруднике С. Эйзенштейна. Его имя, как директора фильма, значится в титрах многих знаменитых картин: «Ленин в Октябре», «Александр Невский», «Летят журавли» и др.
Игорь Вакар – двоюродный внучатый племянник А. А., внук Анны Эразмовны (родной сестры матери А. А.), которая была замужем за Виктором Модестовичем Вакаром.
Но и это еще не окончательное название. Окончательное – «Часть первая. Девятьсот тринадцатый год. Петербургская повесть» – установилось в пятидесятые годы. См. «Записки», т. 2, с. 98.
Одна из частей – а именно: «Часть вторая. Решка».
Ленинградский цикл без детей (то есть без стихов, посвященных Вове Смирнову), по-видимому: «Первый дальнобойный в Ленинграде», «Птицы смерти в зените стоят» и «Nox» – БВ, Седьмая книга.
Татьяна Владимировна Гаршина (1887–1942) – первая жена Владимира Георгиевича Гаршина.
Всеволод Михайлович Зуммер (1885–1970), историк искусства, археолог, ориенталист. С февраля 1940 года он оказался в Ташкенте и читал лекции в местном училище изобразительных искусств. Главным предметом его исследований было творчество художника Александра Андреевича Иванова (1806–1858), автора картины «Явление Христа народу». Зуммер посвятил ему свою диссертацию, многочисленные научные и популярные статьи, лекции.
Ахматова говорит об антологии: М. А. Зенкевич, И. А. Кашкин. Поэты Америки. XX век. (М.: Гослитиздат, 1939).
Каждому автору, представленному в книге, предпослан портрет и небольшая статья о нем. Среди авторов – Хилда Дулитл (р. 1886), поэтесса, работала над лирикой Сафо. В 1911 году, как и Ахматова, путешествовала по Италии и Франции. Жена писателя Ричарда Олдингтона. На фотографии в книге – женщина с челкой, внешне напоминающая Ахматову (с. 142).
Наталья Александровна Вишневская, актриса, выступала в концертах с чтением стихов и прозы, в Ташкенте читала со сцены рассказы Чехова и поэму Лермонтова «Демон».
Н. А. Вишневская – дочь актера А. Л. Вишневского, одного из основателей Художественного театра.
Черняк – Яков Захарович. О нем см. «Записки», т. 2, «За сценой: 71.
Строфа, начинающаяся строкой «Мой редактор был недоволен», стала первой строфой в «Решке».
«Записки покойника» – первоначальное название «Театрального романа» М. Булгакова. Очевидно, Елена Сергеевна Булгакова, которая жила в Ташкенте и дружила с А. А., дала ей рукопись этого произведения.
Речь идет об отрывке, начинающемся строками: «А теперь бы домой скорее / Камероновой галереей» (ББП, с. 367), – отрывке, о котором Л. К. позднее, в пятидесятые годы, говорит: «Это мое самое любимое место. Вершина вершин» («Записки», т. 2, с. 130–132).
Строфа, начинающаяся строкой «Вздор, вздор, вздор! – от такого вздора», позднее стала заключительной строфой первой главы первой части – ББП, с. 361.
Писательница Ксения Сергеевна Львова (1897–1968) и ее муж Леонид Алексеевич Егоров были соседями А. А.
Ася, девушка, живущая у Цявловских, – Ася Петровна Сухомлинова, автор воспоминаний «Простите нас, Анна Андреевна…» («Книжное обозрение», 23 июня 1989).
В «Знамени» № 8 за 1942 год напечатаны четыре стихотворения Ольги Берггольц: «Стихи женщинам Ленинграда (1. Слово матери. 2. Разговор с соседкой. 3. Сестре)» и «Москве».
Речь идет об Е. М. Фрадкиной (1901–1981), художнице, жене Е. Я. Хазина.
В рассказе «Ке фер?» (от французского «que faire?» – что делать?) Тэффи пишет: «Каждый ле рюсс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его… Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица «вор», которую ставят перед именем каждого ле рюсса. Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского «Le» для обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки «дон»…» (цит. по сб.: Тэффи. Ностальгия. А., 1989, с. 180).
Читать дальше