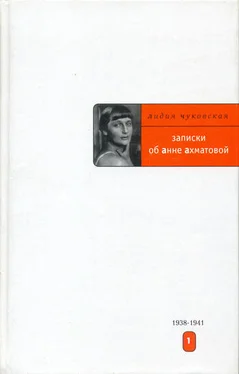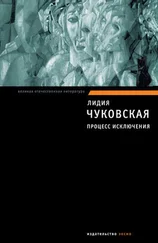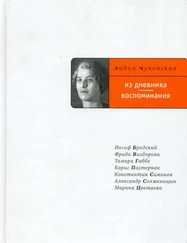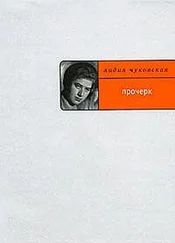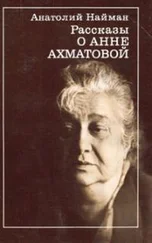Очевидно, Ахматова против обыкновения ничем не помогла Муру на этот раз и произошла какая-то ссора. Некоторое время спустя Мур пишет сестре: «…последние стихи Ахматовой – просто слабы, последняя ее поэма – «1913 год» – сюрреализм. Ахматова остановилась раз и навсегда на одной эпохе; она умерла – и умерла более глубоко, чем мама… Было время, когда она мне помогала, это время кончилось. Однажды она себя проявила мелочной, и эта мелочь испортила все предыдущее; итак, мы квиты – никто ничего никому не должен. Она мне разонравилась, я – ей» (Там же, с. 65).
Душа темна, пути лукавы – строка из стихотворения Ахматовой «О нет, я не тебя любила» – ББП, с. 139.
Оба стихотворения Лидии Чуковской, о которых идет речь, не опубликованы.
Возвращаясь мысленно к своим и ахматовским стихам, Л. К. через четверть века записала в дневнике: «Больше всех поэтов русских я люблю Блока.
Не Ахматову, столь любимую; но это потому, что она – слишком я; из-за нее, например, безусловно из-за нее, я не стала поэтом. Любая моя, мною пережитая мысль, уже высказана ею с такой полнотой и силой, что «тех же щей да пожиже влей» незачем. Когда я хочу что-нибудь про себя рассказать, я могу просто заговорить ее стихами. «И убывающей любови / Звезда восходит для меня». Конечно я и как личность гораздо мельче, потому что для нее существует рост, «Белый, белый Духов день» и пр. Но уж во всяком случае, то малое, что во мне есть (пытка-любовь-смерть), русская природа, Петербург – все это ею выражено. Поэтому сказать: «Ахматова мой любимый поэт» то же, что «я – мой любимый поэт»».
Константин Федорович Исаев (1907–1977), драматург, сценарист, в годы войны работал на Ташкентской киностудии, в июле 1942 года назначен уполномоченным сценарной студии Комитета по кинематографии по Средней Азии. В это время Л. К. работала над сценарием «Аист на крыше» (по рассказам детей) и, очевидно, из-за тяжелой болезни (брюшной тиф) не успела сдать его в срок. О дальнейшей судьбе этого сценария см. с. 547–548. Сценарий сохранился в архиве Л. К.
Синицы – половицы – в стихотворении «Любо вам под половицей / перекликнуться с синицей» – ББП, с. 292.
Страшное о корабле – «На этом корабле есть для меня каюта / И ветер в парусах – и страшная минута / Прощания с моей родной страной» – строки из стихотворения «А я уже стою на подступах к чему-то» (второе в цикле «Смерть» – БВ, Седьмая книга).
«Ленинградская поэма» Ольги Берггольц напечатана в «Комсомольской правде» 30 августа 1942 года.
Ахматова говорит о Бадаевских складах, которые были подожжены зажигательными бомбами 8 сентября 1941 года во время первого массированного налета на город. Пожар продолжался свыше пяти часов. Сгорело 41 строение и в них 3 тысячи тонн муки и около 2500 тонн сахара.
Софья Аркадьевна Журавская, сотрудница Наркомпроса. И она, и Анна Ивановна Ломакина (жены ташкентских высокопоставленных партийных работников), – работали в Комиссии помощи эвакуированным детям. Л. К. тоже входила в эту Комиссию.
Оба стихотворения Лидии Чуковской не завершены и не напечатаны. Первое – «Ты знаешь, я думала раньше…» – обращено к погибшему мужу и кончается цитатой из Мандельштама: «И вчерашнее солнце на черных носилках несут» (из его стихотворения «Сестры тяжесть и нежность…»). Второе – см. с. 510–511.
Ондра Лысогорский (1905–1990), чешский поэт, писавший на ляшском диалекте.
Лиля – Едена Феликсовна Пуриц (1908–1997), жена математика Г. И. Егудина. Егудины пережили зиму в блокадном Ленинграде, потеряли родителей и дочку, эвакуировались на Кавказ. После прорыва немцев они вынуждены были оттуда бежать и оказались в Ташкенте, где вначале поселились у Л. К.
«Гулянье в пользу танков» – благотворительный концерт, сбор от которого предполагалось передать на строительство танковой колонны.
Жена Мадараса – Ирина Мадарас, жена венгерского писателя Эмиля Мадараса (1884–1962), жившего с 1922 года в СССР. В Ташкенте Э. Мадарас одно время возглавлял местное отделение Литфонда. Мадарасы были соседями А. А.
Эдик – Эдуард Станиславович Радзинский (р. 1936), сын Радзинских, впоследствии известный драматург.
Вера Александровна Меркурьева (1876–1942), поэтесса и переводчица, познакомилась с Ахматовой еще в 1933 году. Тогда же в письме к К. А. Архиповой она рисует такой портрет А. А.: «Высокая (не так высокая, как стройная) женщина-птица, руки легкие, в полете, глаза – без цвета, так глубоки и темны ( светлые глаза) …это лицо – живой, с нами, Музы, – теперь не уйдет от меня». (Изд-во МПИ, с. 102.)
Читать дальше