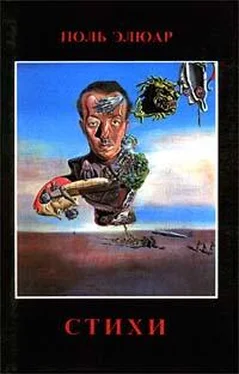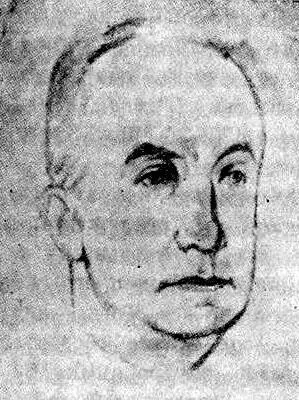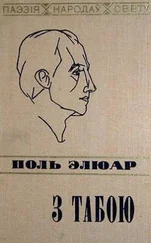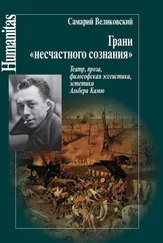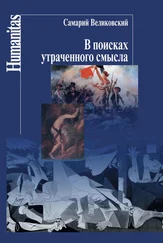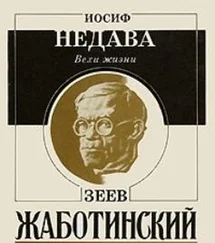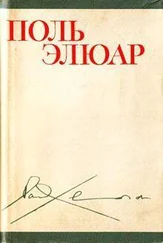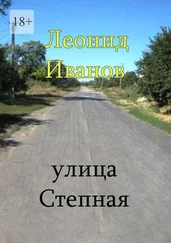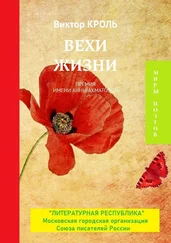Языкотворчество позднего Элюара, имевшее прежде одним из основных источников резкое смещение семантических рядов и подрыв отстоявшихся привычных соответствий, начинает вообще тяготеть к укреплению логических опор, к тому, чтобы из расползающегося и зыбкого словесного сырья строить высказывание крепко сбитое, отточенное, лаконичное. Жестче, проработаннее делается ритмическая основа стиха, весомее звукопись, четче гранение с помощью синтаксиса. Простое слово все чаще оборачивается словом крылатым, афоризмом, лозунгом, заповодыо. Охотно прибегает Элюар и к старинным фольклорным приемам: сказовым зачинам, песенным повторам, подхватам («Затемнение», «Мужество», «Той, о которой они мечтают»). Напевность, которой он прежде избегал, дает теперь ту неброскую подспудную музыку, какая была присуща когда-то Шарлю Орлеанскому, тому из средневековых лириков, кто был ближе других Элюару. И эта негромкая, скромная манера Элюара говорить о беззаветной отваге и безутешном горе, о нестерпимом страдании и пылкой мечте голосом нежным, чуть задумчивым, по-детски бесхитростным и чистым потрясала его соотечественников ничуть не меньше, чем меднотрубная пламенность иных его собратьев по перу и подполью.
«Целью поэзии должна стать практическая истина» — словами Лотреамона, одного из «проклятых поэтов» XIX столетия, озаглавил Элюар стихотворение, где оп подытожил то, что сделал в Сопротивлении, и вместо с тем выступил с манифестом всей своей послевоенной лирики. За это соединение «грезы и дела», пропасть между которыми сто лет назад с болью обнаружил Бодлер и которая вплоть до наших дней мучит едва ли не каждого крупного поэта Франции, Элюара не раз укоряли в отступничестве, в подчинении безбрежной свободы словотворца нуждам и заботам действительной перестройки жизни. На упреки своих «взыскательных друзей» он неизменно и твердо отвечал, что не видит ничего зазорного в том, чтобы «служить общему делу, ибо все люди, уважающие себя, служат делу — вместе со своими вчерашними братьями, сегодняшними братьями, братьями завтрашними» [27] ОС, II, 550.
.
Подобно Жолио-Кюри, Пабло Неруде, Эренбургу, чьи имена в пору «холодной войны» стали известны на всех континентах, Элюар последние годы жизни отдал сплочению людей доброй воли, взаимному сближению народов и культур, развенчанию расистских и милитаристских мифов, натравливающих друг на друга ближних и дальних соседей. Как посланец Франции и международного движения борцов за мир он в эти годы побывал в Бельгии, Англии, Швейцарии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Мексике. В 1946 г., в разгар кампании за установление республики в Италии, по приглашению итальянских коммунистов он проехал от Милана до Неаполя с циклом выступлений. Оттуда он направился в горные партизанские районы Греции, а через три года вновь посетил их вместе с Ивом Фаржем. Дважды, в 1950, а затем, по случаю юбилеев Гюго и Гоголя в 1952 г., он приезжал в нашу страну, которая рисовалась ему «страной воплощающейся надежды». За сухим перечнем этих поездок — тысячи километров по суше, воде, воздуху, тысячи дружеских бесед, митингов, интервью, встреч, — каждодневный труд, требовавший огромного напряжения, доброжелательности, стремления понять, умения убедить.
И все, что сделано, передумано, узнано за эти годы кипучей жизни в самой гуще событий, находит живой отклик в таких книгах Элюара, как «Политические стихи» (Poemes politiques, 1948), «Греция роза моя» (Gr'ece та rose de raison, 1949), «Посвящения» (Hotmages, 1950), «Лик всеобщего мира» (Le visage de la paix, 1951). Он писал о «товарищах-печатниках» и шахтерах-забастовщиках из департамента Нор, о греческих партизанах и испанских подпольщиках, о вожде бразильских коммунистов Престесе и мексиканском живописце Сикейросе, брошенном в тюрьму, о борце против «грязной войны» во Вьетнаме Анри Мартене и работницах парижского района — «сестрах надежды», о Марселе Кашене и Жаке Дюкло — обо всем, что составляло тревоги и надежды тех дней. Для него нет тем запретных, и, словно спеша наверстать упущенное за то время, когда всяческие запреты отгораживали его лирику от «внешних обстоятельств», он теперь жаждет «сказать обо всем». Именно так — «Суметь все сказать» (Pouvoir tout dire) — названа выпущенная им в 1951 г. книга, своего рода ars роеtica позднего Элюара.
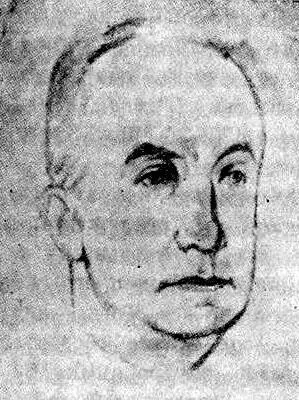
Поль Элюар.
Читать дальше