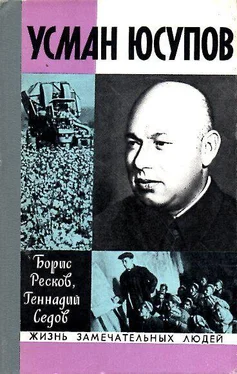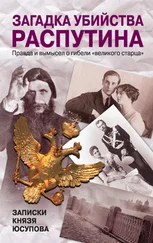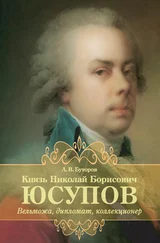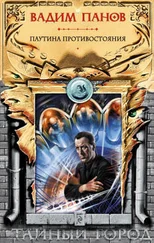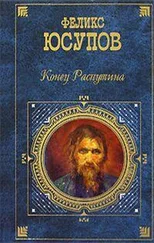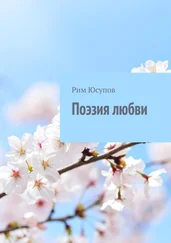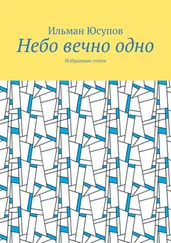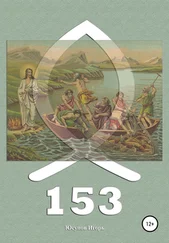Убедил проектировщиков. Получил смету к новому проектному заданию — 94 миллиона рублей. Взялся за голову: такая сумма — «потолок» даже для союзного правительства, республика таких ассигнований дать не вправе.
Думали, думали вместе с верным другом и помощником Шамедом Чакаевичем Айтметовым, давним сподвижником, который возглавлял когда-то исторические стройки — Беговатский металлургический комбинат, Каттакурганское водохранилище. Недавно Юсупов встретил Айтметова в Ташкенте, тот сказал, что хворает, собирается на пенсию.
— Ну это ты брось! Какой ты пенсионер? Приезжай ко мне в Халкабад. Будем работать вместе.
Айтметов приехал.
— Ну спасибо! — радостно сказал Юсупов и велел шоферу: — С сегодняшнего дня будешь возить Шамеда Чакаевича, — и тут же вручил Айтметову постановление Совмина о Халкабаде. — Прочти, только внимательно, скажи, что думаешь.
Вечером Шамед Чакаевич сообщил жене, Алисии Николаевне:
— Я у Юсупова работаю.
— Кем?
— Не знаю, ей-богу. Да и неважно. Работаю — и все.
Он был, независимо от того, как называлась его должность, правой рукой Усмана Юсуповича. Вместе искали они и пути для сокращения сметы. На семь миллионов уменьшили расходы на ирригацию; решили, что удастся еще разок тряхнусь стариной — сделать кое-что методом народной стройки. Несколько сотен участков для домов решили отдать индивидуальным застройщикам. Нашли и другие возможности, но только не в ущерб садам, и Айтметов, с проектным заданием на 49,9 миллиона рублей (хитро: все же не 50!) поехал в Москву, согласовал проект и расходы в Госплане и Госстрое, и вскоре на холмах над арыком Бозсу начались работы.
Юсупов разослал своих людей во все области Узбекистана, вручил каждому письмо, адресованное такому товарищу, который поймет и поддержит дело, начатое в Халкабаде. Везли саженцы из Ферганской долины, из знаменитого института имени Шредера, из колхозов, где были богатые сады, а Юсупов знал их наперечет. Привезли хурму и даже лимоны из собственных узбекских субтропиков — из Сурхандарьинской области, где их выращивают в известном совхозе «Денау». «Известия» сообщили: «В Узбекистане создается гигантский сад, который даст один миллиард штук яблок — по пять яблок на каждую душу населения СССР».
Полмиллиона яблонь было высажено в Халкабаде при Юсупове. Он сам показал каждому рабочему, как надо сажать правильно: когда яма уже засыпана землей, возьми за ствол и вздерни раз-другой, чтоб корни расправились. Разумеется, всем, может, за исключением нескольких юнцов, и это, и вообще все, что относится к посадке деревьев, было хорошо известно, но Юсупов делал свое движение («вот так надо вздернуть…») настолько артистически, что даже опытным садовникам казалось: они сами прежде делали хуже. Шестидесятые годы… Мощные тракторы шутя одолевали халкабадские откосы, волокли за собой многорядные плуги и канавокопатели. Отличные (незасоленные, как в «Баяуте») земли, сытая богара и пастбища стали замечательным грунтом для фруктовых деревьев и винограда. 70 насосных станций начали качать воду для садов из Бозсу, из Северного ташкентского канала (вспомните народную стройку времен войны!). И встали яблоньки, по сотне на каждом гектаре — ровные, в линеечку, ряды, с какой стороны ни глянь, как девушки в спортивном строю на праздничной площади, — сравнение это приходило всем на ум невольно весной, когда яблони-трехлетки впервые зацвели. Яблони начинают по-настоящему плодоносить лишь на десятый-одиннадцатый год, поэтому между ними посадили косточковые породы: персик, сливу, алычу, вишню.
Уже на третий год урожай персиков удался такой, что собирать не успевали: смуглые, словно подпаленные с одного бочка, покрытые золотистым пушком плоды падали на траву (черенки не выдерживали тяжести). Он не мог смотреть на это.
— Слушай, — сказал Айтметову, — привози в выходной из города людей. Поработают в саду, на свежем воздухе, соберут килограмм по сто, погуляют, отдохнут.
Нашелся осторожный, предупредил:
— За всеми разве уследишь…
Юсупов вспылил:
— Ну и что, если каждый возьмет пять-шесть кило? Не спекулировать же, кушать! Себе, детям. На здоровье!
Так говорил в этом случае Юсупов, для которого государственная копейка была священна. Позаимствовать пустяк для личных нужд — святотатство.
На такой должности, у «золотого дна» должен находиться коммунист. Здесь напрасны эпитеты — честный, преданный народу и т. д. Коммунист — этим сказано все. Человек, находящий единственный смысл жизни в служении идее, пусть он немного фанатичен; не надо, как говорят, бояться ни этого слова, ни этого свойства честной души.
Читать дальше