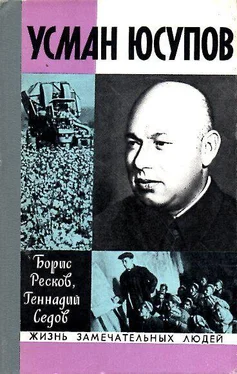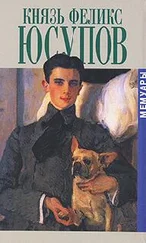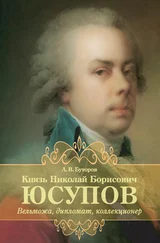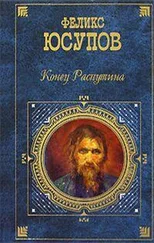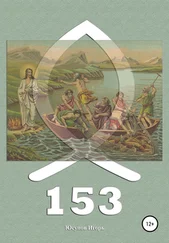Как было легко в финале прийти к идиллии, прежде всего не в этом жизнеописании, а самому нашему герою на склоне его лет; безмятежность (причем в самом буквальном смысле — на лоне цветущей природы) могла бы стать уделом этого шестидесятитрехлетнего человека, так много и плодотворно послужившего своим убеждениям и своему народу. Прошло три года, как он получил право на пенсию. Многого, если иметь в виду быт ему не нужно было: маленький домик, хауз во дворике, виноградник, цветник — вот и все, и все это было не так уж трудно осуществить, поселившись в том же родном Янгиюле.
Он и вернулся сюда, но по-юсуповски: не стариком, вышедшим на заслуженный отдых, с заслуженными наградами, которым даже на его широкой груди было бы тесно, — попивать в благостный азийский вечер чай, смакуя, как то умеют только узбеки, каждый глоток и, не тревожась ничем, предаваясь неторопливым воспоминаниям, посреди почтительного молчания соседей, благоговейно слушающих самого Усмана-ака, а по утрам сидеть над мемуарами (Юсупов этого, как известно, не успел сделать, и это единственно из упомянутого ряда, о чем стоит пожалеть). Последние шаги его были тоже трудовыми, и сделал он их на той же земле, на которой полвека назад начал работать.
То была местность, неподалеку от бывшего селения Каунчи, называемая Халкабад. В честь знаменитого земляка местности этой дали имя «Усманабад». Первая составная — имя Юсупова, а слово «абадий» означает по-узбекски «вечность». Уезжая министром в Москву, не зная, вернется ли в Узбекистан вообще, он сказал:
— Я здесь действительно работал когда-то я саду у Машкова, у Алексеева. Но все, что здесь есть, сделано руками народа. Пусть же будет это Халкабад…
«Халк» означает «народ».
Произнеси что-либо подобное кто-то, позади которого как бы постоянно присутствует незримый, почтительный летописец и фиксирует, фиксирует для потомков каждое изречение выдающегося человека, слова эти (да и сам поступок) могли бы показаться рассчитанными на эффект, но кому-кому, а Усману Юсуповичу рисовка была несвойственна. К тому же, повторим, он не был уверен, что будет опять работать в Узбекистане, а коли так, то, казалось бы, наоборот: позаботься об увековечении имени твоего!
Но он был и мудр, и попросту совестлив, и опытен: тщета рассудочных высоких слов была ему известна. Единственно, что не изменит ни в настоящем, ни в будущем, — дело. Он и был рыцарем дела, и чем оно было труднее, до неодолимости подчас, тем больший смысл приобретал каждый день, отданный работе. Потому и не согласился уйти на тот заслуженный отдых, а коли уж захотели уважить, попросился на тяжелую должность директора первого в республике агропромышленного объединения, созданного по решению Союзного правительства в упомянутом Халкабаде. Да, позволил себе на старости слабость: оставил «Баяут», подумалось — удастся все же осуществить ту непогасшую, оказывается, мечту, которая грела с юности, когда рысцой носился по голым каунчинским холмам с загадочной рейкой в руках, пренебрегая уколами острых, словно гвозди, верблюжьих колючек, ступая прямо по ним потрескавшимися босыми ступнями. Сидел однажды на самом верху пологого кургана, ожидая, пока строгий недоступный топограф в зеленой с белым верхом фуражке подаст рукой сигнал, а тот, оказывается, позабыл о любопытном, но сдержанном туземном парне в штанах из мешковины, едва закрывавших колени. Усман сперва следил за фигурой топографа, пытаясь понять, что тот делает: записывает ли что-то в толстую красивую тетрадь или закусывает; потом забылся, заглядевшись на бесчисленные холмы, похожие на большую отару, которая прилегла отдохнуть у линии горизонта. Холмы были голы. Много, много пустующей земли. Естественная мысль пришла в голову: были бы здесь сады, вот так же — до самого края, куда глаз хватает… Сады в жемчужном весеннем цвету, в янтарных, нефритовых, рубиновых плодах — ясной туркестанской осенью.
Мечта была красива, как все мечты, а потому казалась еще неосуществимей. И вот в самом конце 1962 года пришел черед уже не мечте — делам. И он не устоял перед желанием оставить все же после себя сад — не в переносном — в самом прямом смысле.
Он был болен, это видели все и поэтому отговаривали, желая искренне добра. Но он-то знал лучше всех, что такое добро для Юсупова. Одной лишь Юлии Леонидовне признался:
— Пусть жизнь короче будет. Тем более надо спешить: сажать, сажать, сажать деревья надо. Мы не успеем попробовать, внукам будет.
Читать дальше