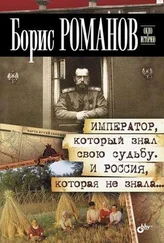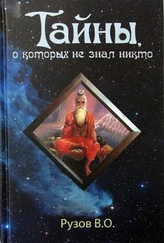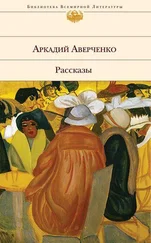Кацман был художником даже не передвижнического типа, а, скорее, эпигоном выродившейся академической школы середины прошлого века, писал замусоленные, зализанные картинки и пастельные изображения каких‑то ангелоподобных девочек с бантиками. Вообще, его «искусство» было весьма невзрачного вида. Он тоже был исключен из АХРа за свои деловые «таланты». Но он был человеком совсем другого характера, нежели Бродский: с необычайным темпераментом, все время вылезавший со всякими пылкими речами, пропагандировавший собственные «принципы». Несмотря на свое еврейское происхождение, он был крайним антисемитом и до революции входил в качестве члена в состав черносотенного «Союза русского народа». Так что его «принципы» приспосабливались ко всему, чему угодно, шокируя даже его соратников по АХРу. Во всяком случае, когда из АХРа вырос в конце концов РАПХ (Российская ассоциация пролетарских художников), куда вошли самые крайние, мракобесные из членов АХРа, Кацмана туда не взяли. Когда РАПХ был ликвидирован в феврале 1932 года, состоялось большое собрание художников в Третьяковской галерее. Я был на нем. Кацман вылез на трибуну и с необычайным пафосом начал свою речь: «Что такое РАПХ?» Чей‑то голос из зала ему ответил: «Это продолжение АХРа». Поднялся невообразимый хохот, и Кацману пришлось уйти с трибуны, так и не объяснив, что такое РАПХ с его точки зрения.
Могу добавить и собственное впечатление. Кацман был сумасшедший — в самом прямом смысле, постоянно отправлялся в соответствующее заведение, но временами ему становилось лучше, и его выпускали на волю. Однажды в Академии художеств очень торжественно вручали медали Академии, в том числе очень слабенькому, вполне официозному плакатисту Виктору Иванову. Кацман вылез с поздравлениями, но спутав плакатиста с прекрасным, очень сильным живописцем Виктором Ивановым, принялся отчитывать награжденного: зачем он, будучи таким прекрасным плакатистом, пустился писать никуда негодные картины. Зал давился хохотом; Иванов сидел красный как рак; президиум шипел, дергал Кацмана за полы пиджака — он нес свое, ничего не замечая. В другой раз мне довелось слышать гневные филиппики Кацмана в адрес «этого жида Тышлера»…
Бродский и Кацман — наиболее агрессивная, наиболее циничная часть ахровской публики. Вольтер, несмотря на свою пышно звучащую фамилию, был просто круглый дурак, абсолютный тупица. Это был высокий, усатый дядя в очках, весьма глупого вида, с какими‑то длинными сальными волосами, спускавшимися на плечи, и абсолютно ничтожный художник. Тем не менее, когда образовался первый в советской истории Московский союз художников, именно он был назначен его председателем. Правда, его сменили довольно быстро, но он успел выступить и в качестве председателя жюри юбилейной выставки 1932 года.
Перельман — тот был в АХРе основным идеологом и организатором. Это был маленький, низенький человечек, очень ярко выраженного, в самом дурном смысле еврейского типа — таких пронырливых одесситов изображали Ильф и Петров. Он был устроителем всех ахровских дел, большей частью не творческого, а вполне коммерческого порядка.
С Модоровым я встретился в первый раз при курьезных обстоятельствах — познакомился я с ним гораздо позже.
Когда я был еще студентом, но уже работал в музее, т. е., очевидно, в 1927–м или 1928 году, издательство АХР (а у него было свое издательство) решило издавать репродукции классических картин, в том числе и западных, и студентам, будущим искусствоведам, заказало по дешевке тексты для сопроводительных листов. Я помню, что Наташа писала такое сопроводительное объяснение к «Эсфири» Рембрандта; я — к каким‑то французам. Именно в связи с этим мне пришлось поехать в издательство АХР и разговаривать с его директором Щекотовым, который потом был долгое время директором Третьяковки. Это был довольно бесталанный деятель, но много писавший об искусстве. Издательство АХР помещалось там, где потом полвека находилось издательство «Искусство», на Цветном бульваре, в самом дальнем конце глубокого двора [13] Мама рассказывала, как они — студентки — искусствоведки — шутили, что «подрабатывают на Цветном бульваре»: до революции в окрестностях Цветного бульвара располагались публичные дома.
.
Мы стояли со Щекотовым у окна и разговаривали, глядя на этот самый двор. В дальнем его конце виднелась подворотня, выходящая на Цветной бульвар. И вдруг, пока мы стояли у окошка, во двор въехала роскошная открытая машина, по тем временам самая шикарная и дорогая, какие только были, и из нее вылез господин в шубе (так как это была глубокая осень), такой, какие носили тогда старые актеры Малого театра — с мехом не только на воротнике, но и вдоль всего края шубы до самого низа, в меховой котиковой шапке, с большой толстой тростью с набалдашником, с двойным подбородком, с щеками, как у бульдога, спускающимися вниз к плечам и с необычайно важным видом. Я удивленно спросил: «Кто это такой?» «А вы не знаете? — удивился Щекотов. — Это же Модоров, председатель художественного фонда». Я знал, что Модоров — ахровский живописец, довольно второсортный даже по отношению к ним, писавший в основном слюнявые пейзажи.
Читать дальше