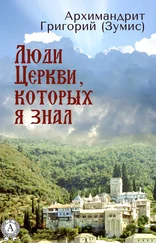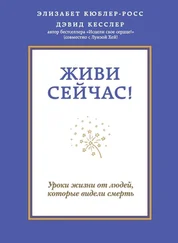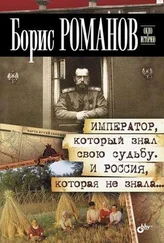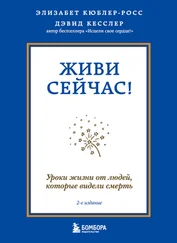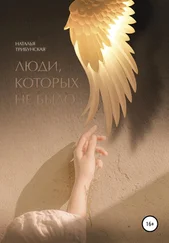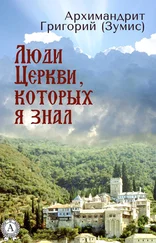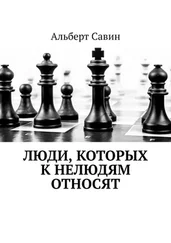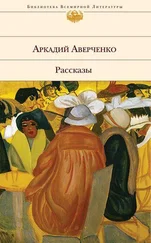С Кузнецовым близкая дружба вряд ли могла сложиться — уж очень мы были разные люди. Но вспоминаю я его с большим уважением. А художник он очень хороший, что показала его недавняя выставка совместно с Матвеевым.
А вот Матвеев, знакомство с ним, перешедшее в очень добрые отношения, — это было одно из самых главных моих «достижений». Человек он был очень суровый, очень молчаливый, очень сдержанный, замкнутый, медленно и мало работавший, вынашивавший каждую свою работу долгими годами. После него осталось совсем не так уж много вещей, но они замечательные.
Примерно в это время, не позже середины 30–х годов, я познакомился с Сарьяном. Это одно из очень важных событий в моей художественной биографии. Когда и где я его встретил, я совершенно не помню, потому что в музей он ко мне не приходил, поскольку никакой графикой особенно не занимался, и в выставках, которые я устраивал, не участвовал. А в Ленинграде в 1932 году сам он не был. Там была его стена, довольно случайная по своему составу, в общем не отвечающая его уровню и значению, хотя и красивая. Но по сравнению с тремя другими, блистательными стенами того же зала — Петрова — Водкина, Шевченко и Кузнецова, он выглядел скромнее, хотя в результатах своего творческого пути превосходил всех трех на много голов. Я написал о нем очень хвалебную, просто восторженную статью в 1936 году, уже его зная, и эта статья положила начало прочной дружбе, которая сохранилась до конца жизни Сарьяна. Кстати сказать, эта статья в «Литературной газете» 1936 года вызвала очень большое неудовольствие Кеменова, который тогда тоже, как и я, подвизался в «Литературной газете» в роли критика. Мы печатались с ним чуть ли не по очереди, стоя на диаметрально противоположных позициях и очень не одобряя взаимно друг друга.
После войны я часто виделся с Сарьяном — всякий раз, как он являлся в Москву. Я о нем несколько раз писал впоследствии, уже в 60–е годы и позже. Сарьяна описывать нечего — все его знают, но меня всегда поражали какая‑то детскость этого человека, его открытое, простодушное восхищение красотой реального мира, его бесконечное добродушное отношение к людям, хотя он великолепно разбирался, кто как к нему относится. В 1952 году на обсуждении юбилейной выставки выступил Борис Веймарн с необыкновенно пылкими тирадами, очень возмущенными в адрес беспринципного жюри, которое взяло на выставку ужасные картины Сарьяна. Потом, лет через пять всего- навсего, эти самые картины доставили Сарьяну Ленинскую премию, так что Веймарн заработал только то, что Сарьян до конца своих дней не выражался иначе, как «этот мерзавец Веймарн». И это при всей его доброте и солнечности, которая была не только в живописи Сарьяна, но и во всем его поведении, во всем его облике — олицетворение солнца, да еще солнца Армении. Это ведь совсем особое солнце. Одна из самых прекрасных стран, какие есть на земле, — Армения. Я это узнал в послевоенные годы, когда был там два раза.
Я хорошо помню, как мы с отцом были у Сарьяна в его мастерской в Ереване на «улице Сарьяна», как он показывал нам свои работы — и ранние, и совсем недавно сделанные очень трагические и сильные станковые рисунки. От жары у отца началось сильнейшее носовое кровотечение, — Сарьян страшно взволновался, уложил отца на кушетку, ухаживал за ним с трогательной заботливостью. Он был уже очень стар и хотя по — прежнему светел, очень грустен, — незадолго перед тем в автомобильной катастрофе погиб его сын .
Художники «другого плана»
Художники «другого плана». И.Бродский, Е.Кацман, Ф. Модоров, П. Родимов, В.Яковлев
Я хочу здесь несколько слов сказать о художниках другого плана, противоположного мне по всем статьям лагеря, с которыми я никаких дружб не водил, но знакомство волей — неволей состоялось. Это были, собственно говоря, основные деятели АХРа: Бродский, Кацман, Перельман, Вольтер, Модоров, Родимов, Василий Яковлев. Их стоит описать.
Бродский предстал перед моими очами в качестве члена жюри в Ленинграде, когда жюри это ходило по залам, смотрело приставленные к стенам картины. Ничего они не отсеяли, но возни было очень много. Важен Бродский был необычайно. Он ходил, выставив вперед пузо и подняв нос кверху. Ко мне он отнесся с абсолютным пренебрежением, поскольку я был лицо, совершенно незначительное с официальной точки зрения. Но я видел, как он вилял хвостом перед Бубновым, — это был совсем другой Бродский. Маяковский его изобразил с абсолютной точностью под именем Исаака Бельведонского в своей пьесе «Баня», где он собирается писать портрет Победоносикова в ракурсе «как утка на балкон». Кстати сказать, прототип был весьма прозрачный — Бродского звали Исаак Израилевич. Это был делец, абсолютно циничный делец, без малейших стеснений. Он укрепил свое положение тем, что вовремя начал писать не светских красавиц, чем он занимался до революции, а разных руководителей революции. Его известная картина «Ленин в Смольном», где Ленин сидит склонившись, у краешка стола, написана просто по фотографии, без малейших от нее отступлений. Такая фотография сушествует, и существует другая фотография, где запечатлен Бродский, пишущий Ленина в его кабинете. Но он стоит не перед столом, а в его конце, откуда он в ' аком ракурсе, как на его картине, видеть Ленина никак не мог. Он воспользовался готовой фотографией, абсолютно точно ее увеличил и раскрасил. Таким он был и дальше всегда. Деловые его таланты привели к тому, что он даже из АХРа был исключен за чрезмерное делячество. Это уж, очевидно, был крайний случай. Я очень счастлив, что мне не пришлось больше встречаться с этим человеком. Все, что с ним связано — полнейшая профанация искусства. При всем его самомнении и важности, он был полнейшим ничтожеством [12] Следует, мне кажется, отметить, что, при всем своем делячестве, Бродский все‑таки не был полным ничтожеством — подобно Пьеру Грассу Бальзака, он собрал превосходную коллекцию картин настоящих художников.
.
Читать дальше