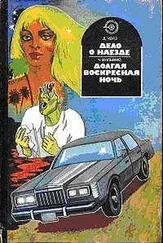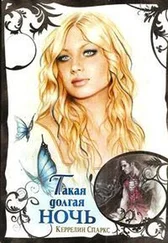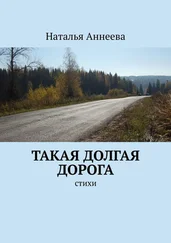Когда Иванов освободился, отбыв десять с лишним лет в заключении, он получил паспорт, естественно, с «клеймом» — 39 статьей паспортизации. Григорий Иванович имел неосторожность летом в навигацию в качестве «вольного» идти по улице Певека. Патруль охранников МВД задержал его, убедившись по его паспорту, что он именно тот меченый «контрик», его без судебного решения препроводили в трюм парохода, чтобы отправить в ссылку. Система снова показала свое сталинское человеконенавистническое лицо. Так, выловив отбывших по 58-й статье «вольных», власть без приговора, но, очевидно, по предписанию из Москвы, собирала новый этап для ссылки туда, где эти, недобитые в лагерях, должны умереть. И я лишний раз убеждался, насколько бесчестна и жестока «самая гуманная власть первого в мире социалистического государства».
Эрнест Юрьевич Платис, врач, точнее — доктор психологии, латыш, убежденный латышский националист, крепкого сложения мужчина с пристальным взглядом светло-серых глаз и крутым упрямым лбом. Мне он нравился логичностью мышления, умением корректно вести спор, а спорили мы с ним часто. В ответ на его хвалебные речи, адресованные латышской нации, я противопоставлял свою терпимость и свое уважение к любой нации. А когда он особенно резко начинал критиковать славян и особенно русских, по недомыслию поддержавших октябрьский переворот, именуемый революцией, я говорил ему, что за все, что получилось после победы большевиков, он должен благодарить своих умных, хозяйственных и расчетливых земляков — латышских стрелков, спасших во время мятежа эсеров в Москве Ленина и все его окружение. Следовательно, мы — я и Платис, сидя в заключении, в конечном итоге должны быть «благодарны» латышским стрелкам. Впрочем, я об этом уже говорил раньше.
Платис отвечал, что темные люди, одураченные пропагандой и обманутые красивыми обещаниями, способны совершать глупости. И это, добавил Платис, один из курьезных законов в человеческом обществе. В своей деятельности Платис был честен, прям и справедлив. Когда он уехал на «большую землю», он по пути на родину навестил мою маму и тетю, конечно, ненадолго, проездом. О его посещении мама и тетя говорили немного, не вдаваясь в подробности.
При Чаун-Чукотском горнопромышленном управлении Дальстроя МВД в Певеке был создан санотдел, а в крупных лагерях из числа вольнонаемных медиков были назначены начальники санчастей. Начальниками Чаун-Чукотского горнопромышленного управления Дальстроя МВД, сменяя друг друга, были Дятлов, Туманов и, может быть, другие, кого я не запомнил.
Запомнился мне полковник Житомирский, прямой и справедливый человек. Его жена, капитан медицинской службы Шевеленок Любовь Александровна, была начальником санотдела, а значит и нашим начальником. Это была красивая голубоглазая со светло-русыми волосами стройная женщина. Мундир капитана очень ей шел, впрочем я видел ее и в обыкновенном женском платье, которое тоже ей шло, красиво облекая ее ладную фигуру. Справедливая и требовательная, чуткая и внимательная, она всем нам, медикам, очень понравилась. Она очень ценила в нас добросовестное отношение к своим обязанностям и способность сочувствовать пациентам. Чуткость и забота — вот, пожалуй, главное, что характеризует Любовь Александровну в ее повседневной деятельности. Однажды, когда автотрассу только расчистили от снега, она вызвала меня в Певек. На попутной машине я довольно быстро с 47 км. прибыл в Певек и явился в санотдел. Смотрю: лицо у нашей начальницы суровое, брови сдвинуты, голубые глаза холодно смотрят на фельдшера Толмачева. Она начинает меня «распекать», обвиняя в недисциплинированности и самоуправстве. При этом она встает, я тоже встаю со стула, молчу и изображаю дисциплинированного слушателя, стараясь понять, за что мне достался этот «разнос». И опять про себя отмечаю, как она хороша, этот мой начальник, капитан медицинской службы. Выяснилось: я заслужил этот выговор за то, что в пургу, уйдя из Певека, прошел 47 км. до своего медпункта. «Как вы посмели рисковать жизнью! Причем рисковали без большой надобности!» — восклицает она и добавляет: — За такое нарушение дисциплины вас надо отправит на гауптвахту!» Я не выдерживаю и, глядя в ее разгневанное лицо, откровенно смеюсь. Она поражена: «Он еще смеется», — возмущенно говорит. И я говорю: «Любовь Александровна, не сердитесь и не пугайте меня гауптвахтой. Я сидел в режимной тюрьме, прошел ряд убийственных лагерей, по мне стреляли, я смотрел не раз смерти в глаза, а вы думали, что сидение на гауптвахте меня испугает». Она рассмеялась и сказала: «Поймите, Мстислав Павлович, мне очень тяжело было бы, если бы вы погибли в пургу. Я не хочу терять таких хороших людей и добросовестных работников как вы». «Спасибо за высокую оценку моей персоны и обещаю больше не рисковать», — сказал я.
Читать дальше