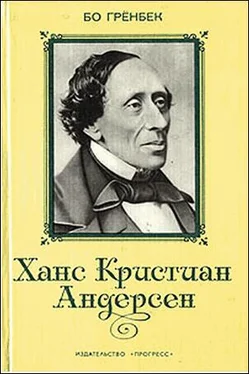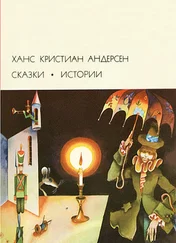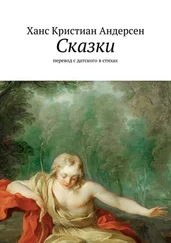Главы о Константинополе, должно быть, представляли большой интерес для читателей в Северной Европе. Он своими глазами увидел этот огромный восточный город, и кто бы написал столь живые картины города, если не он: узкие улочки, такие узкие, что эркеры почти смыкаются, и можно в дождь пройти, не замочив ног… множество лошадей, ослов, повозок и людей… болгарский крестьянин, танцующий на улицах под волынку в шубе из овечьих шкур и красной ермолке и похожий на медведя на задних лапах… базары с их вавилонским столпотворением разных народов… или варварская, полувосточная, полуевропейская роскошь праздника по случаю дня рождения Магомета. Картины столь же ярки, как если бы они были написаны вчера.
Оставалась лишь самая опасная часть путешествия: переезд через Черное море (где недавно потонул большой пассажирский пароход) и вверх по Дунаю. Открывают рассказ уже упоминавшиеся размышления автора по поводу маршрута, а дальше идет описание Босфора, туманы на Черном море и плавание по Дунаю через совершенно неизвестные ему и его читателям Балканы с их могучими лесами и причудливой смесью среднеевропейской и магометанской культуры. И сегодня это увлекательное чтение. Настоящий шедевр представляет собой описание десятидневного карантина в Оршове, о скуке которого он рассказывает так, что читатель скучает вместе с ним и вместе с ним учится замечать и веселое в самых незначительных событиях. Другое прекрасное место — это сцена с беспокойной дамой, которая поднимается на борт по дороге; ее уговорили совершить путешествие на пароходе, но она охвачена ужасом, потому что слышала, будто эти современные штуки обычно взлетают на воздух. Вероятно, ее реплики представляют собой чистый вымысел, так как Андерсен едва ли понимал, что она говорит.
После пересечения австрийской границы писатель снова оказался на знакомой земле, и здесь напряжение ослабевает. Последние главы не представляют большого интереса в наши дни. Книга заканчивается знаменитыми словами о первом моменте возвращения домой, который и есть венец всего путешествия.
* * *
Немногие датчане знали Швецию в начале XIX века. Отправляясь в путешествие, обычно держали путь на юг. Андерсен был одним из первых, кто избрал другой маршрут. В 1837 году он посетил Стокгольм, а в 1839 и 1840 — поместья в Сконе. Тогда же его пригласили в Лунд, где студенты устроили в его честь большое празднество и где председательствующий сказал, в частности, что, когда Андерсен в скором времени приобретет мировую известность, пусть не забывает, что лундцы чествовали его первыми. Именно на этот визит намекает Хейберг в «Душе после смерти»:
Луна его славы блистает на небосклоне,
достигло сиянье ее королевского Сконе.
В 1849 году он снова побывал в Стокгольме и отправился дальше на север, в Далекарлию. Именно после этого трехмесячного путешествия он написал книгу «По Швеции» [45], вышедшую в 1851 году. Это не связное описание поездки, а ряд картин и впечатлений о соседней стране, тщательно скомпонованных вместе в своего рода симфонию; природа, города, люди и история с большим мастерством соединены в музыкальное целое. Для разнообразия в книгу вставлены наброски типа новелл (многие из которых сейчас включены в сборники сказок), лирические отступления и замечания о поэзии, науке и религии. Эту книгу можно сравнить с гобеленом, вытканным из впечатлений о Швеции.
Объективности ради следует отметить, что не всегда ясно, почему главы расположены именно в таком порядке, а также какое отношение имеют к Швеции новеллы и обширные рассуждения. Философские вставки часто отличаются скорее лирической силой, чем ясностью мысли, а форма выражения, в которой большую роль играет настроение, подчас делает описания мест менее наглядными. С другой стороны, есть куски, в которых автор просто превосходит самого себя. Несколькими линиями он рисует шведские шхеры, через которые проплывает: «Рассеянные тут и там бело-серые утесы повествуют о том, как их тысячелетиями хлестали ветры и непогоды. Мы приближаемся к более крупным скалистым островам и серым, полуразрушенным древним утесам материка, где растет в вечной борьбе с порывистым ветром низкорослый еловый лес; проливы между шхерами превращаются то в узкий канал, то в широкое озеро, усеянное каменистыми островками, порой просто небольшими глыбами камня, за который цепляется единственная сосенка; крикливые чайки летают над расставленными здесь и там навигационными знаками».
Читать дальше