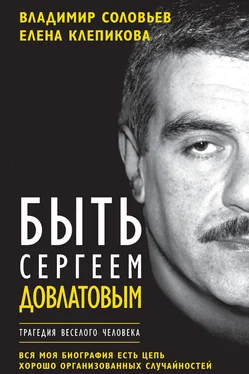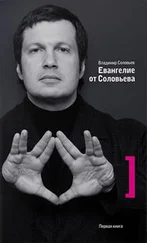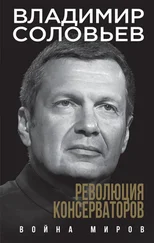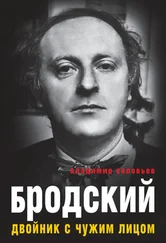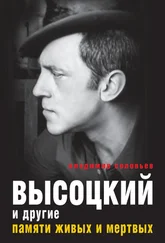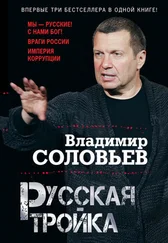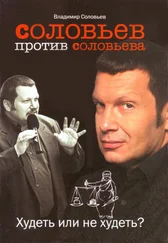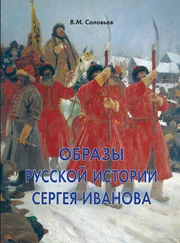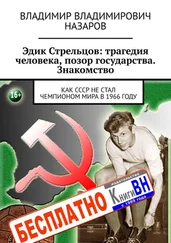Но как утомительно часто Попов подстраивает Довлатову такие уличные безмолвные встречи с собой, свидетелем, но без свидетелей! Вот одна такая виртуальная встреча: «…наверно, в один из приездов Довлатова в город из армии я и встретил его на Литейном. Мы не были с ним еще знакомы… В тот раз мы переглянулись с Довлатовым — и разбежались. И он — ладный, в шинели с бляхой — весело побежал через Литейный».
И далее — одна за другой внезапные эти встречи-невстречи с «Серегой» на Невском, на Суворовском, на Литейном, а то и просто взгляд на него издалека или вблизи, зато — авторская уловка — с точным указанием места: вспышка реальности, манок правдоподобия в фиктивной, сочиненной и откомментированной автором «жизни» героя.
Вперед, к Довлатову-студенту. Я тяну с этим его «байопиком», потому что только до писательства автор позволяет своему герою хоть как-то, пусть и превратно, с неизменным негативом, но личностно проявиться. Довлатов-писатель в книжке Попова — неодушевленный предмет, объект авторского презрения, негодования и мести. Поэтому не будем спешить.
Ничего, ну решительно ничего привлекательного и любопытного не находит автор в юном Довлатове. Наоборот. С самого начала — и это сквозной, по всем главкам, прием — автор подсыпает в характеристику героя «горстку негативчика».
«Сам Довлатов, с присущей ему желчностью, свое появление в университете откомментировал…» Да нет, хочу встрять, не был 18-летний остроумец, весельчак и насмешник желчным — да и никогда в жизни не был. Это Попов ему с ходу придумал. Или такой, ни с того ни с сего, разнос: «…все неприятные качества Довлатова — жестокость, конфликтность, коварство…» И наблюдательность-то у Довлатова, восхищавшая друзей, «издевательская», и склонности все хищные, своекорыстные, а истории, в которые он вляпывался, все «возмутительные», что объяснимо, конечно, «его темпераментом, амбициями и комплексами».
Ну да, снова анти-Довлатов на фоне его несуразной, «рыхлой и корявой жизни». Истукан, фантом, на который можно вешать любые и самые страшные пороки, вроде «моральных преступлений», которых у этого Довлатова не счесть.
Чем занят наш герой в университете? Всем чем угодно, только не учебой, брюзгливо сообщает автор. На полном серьезе он уличает высокомерного «белоподкладочника» Довлатова в злостном уклонении от студенческой повинности по уборке картошки, в прогулах, дурной учебе, переэкзаменовках, влюбленности в учебное время, в снобистском неучастии в бурной общественной жизни. Именно так раньше шельмовали нерадивого студента на комсомольском собрании. Спрашивается: зачем автор впаривает такую лажу любопытному до Довлатова читателю? Увы, по инерции злословия. Любой негатив, даже такой казенный, приветствуется в этой книжке. И не забудем, что у Попова — парные биографии: «разгильдяю» Довлатову противостоит правильное студенчество самого автора.
Нет, Сергей не бездействует на филфаке. Он занят своим привычным — с детства, как помните, — придуманным для него Поповым делом: властным самопиаром, созданием своего обворожительного образа и внедрением его в массы. Среди студентов «мифологию свою он стал создавать практически сразу… Его таинственное величие чувствовали все, кто сохранил еще чувства».
Не забудем, что герой у Попова связан по рукам и ногам своей реальной посмертной славой. На каждом этапе жизни он, с какой-то дьявольской прозорливостью озирая свое будущее, работает на него не покладая рук. А потому само это его умение создавать «необъяснимое, но властное поле влияния» (словами Попова) — только репетиция к американской суперкарьерной жизни: «В полной мере он продемонстрировал это в Нью-Йорке».
Невозможно пропустить еще одно — опять же провидческое — свойство, выисканное Поповым у юного Довлатова. Оказывается, Анатолий Найман язвительно прочил Довлатову статус «прогрессивного молодого писателя», но Довлатов « с уже разработанной системой несчастий и проваловсумел этого избежать». Слова Попова, выделено мной.
Беспрецедентное заявление! Бывают люди, которые притягивают к себе всякие беды, ну, типа «33 несчастья» или, как говорят французы, faire les 400 coups, откуда и пошло название прекрасного фильма Франсуа Трюффо «400 ударов». Ладно, пойдем дальше и переведем тему несчастья из бытового плана в литературный, когда личная трагедия становится подпиткой для художника. Дабы не растекаться мыслью по древу, сошлюсь на двух авторитетов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу