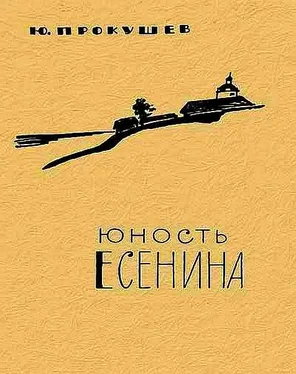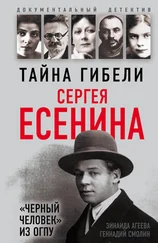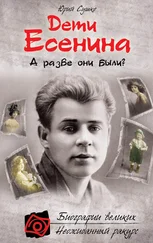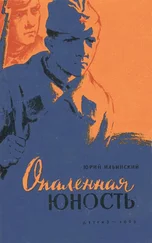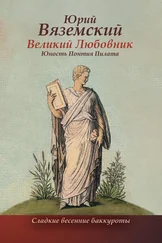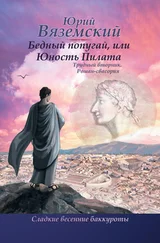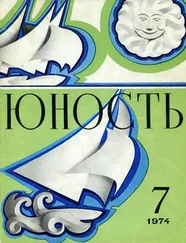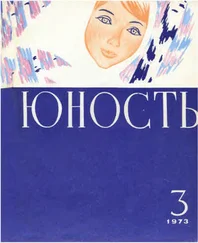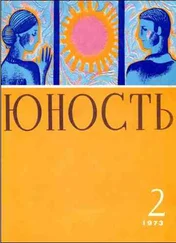Поэт Николай Полетаев рассказывает о встрече с Есениным в 1918 году:
«Говорили мы с ним о литературе. Я спросил его, чем он сейчас больше всего интересуется.
— Изучаю Гоголя. Это что-то изумительное!
Есенин даже приостановился, а потом неподражаемо прочел на память несколько гоголевских фраз из описаний природы.
— Передо мной, — замечает Полетаев, — вырос человек, до самозабвения любящий красоту русского слова».
В могучем союзе с родной природой книга уже в школьные годы формировала сознание деревенского подростка.
«В бога верил мало, — писал Есенин о годах детства в автобиографии. — В церковь ходить не любил. Дома это знали и, чтоб проверить меня, давали 4 копейки на просфору, которую я должен был носить в алтарь священнику на ритуал вынимания частей. Священник делал на просфоре 3 надреза и брал за это 2 копейки. Потом я научился делать эту процедуру сам перочинным ножом, а 2 коп. клал в карман и шел играть на кладбище к мальчикам, играть в бабки» [62] Сергей Есенин. Собр. соч. в пяти томах. М., Гослитиздат, т. 5, 1962, стр. 11, 12.
. Односельчане вспоминают, что с «10–11 лет Сергей уже смотрел иначе на религию, начал отлынивать от церкви и вместо того, чтобы идти в церковь, бегал с ребятишками на реку купаться… С этих же, приблизительно, лет он перестал носить крест и к прозвищу Серега Монах прибавилось еще другое прозвище — Безбожник" [63] И. Г. Атюнин. Рязанский мужик — поэт-лирик Сергей Есенин. 1926. Машинопись. Рукописный отдел ИМЛИ имени Горького. Об этом же сообщает и К. Воронцов, который вспоминает, что еще в 1912–1914 годах Есенин «скинул с себя крест и не носил его, за что его ругали домашние, а если кто его называл „безбожником“, несмотря на то, что это слово в тогдашнее время было самым оскорбительным, он усмехался и говорил „дурак“» (Воспоминания о Есенине. 1926. Рукописный отдел ИМЛИ имени Горького).
.
* * *
Благотворное влияние на будущего поэта в юные годы оказала его мать. «С ранних детских лет, — вспоминает А. А. Есенина, — мать наша приучала нас к труду, но не заставляла, не неволила и к неумению нашему относилась очень терпеливо. Помню, как она приучала меня полоть в огороде картошку. Уходя на огород, не звала меня с собой. Через час-другой я сама прибегала за чем-нибудь и вертелась около нее. Вот тут-то она и скажет: „А ты рви травку, рви. Видишь, вот это картошка. Ее нужно оставлять, а траву рвать, а то она не дает никакого хода картошке“. И невольно принимаешься за работу… За вырванную случайно картофельную плеть мать никогда не ругала, а спокойно говорила: „Ну что ж, бывает“» [64] Журнал «Молодая гвардия», 1960, N 7, стр. 212.
. После вынужденной, почти пятилетней, разлуки с сыном Татьяна Федоровна стала относиться к нему с еще большей заботой и любовью. «Когда Сергей, одевшись в свой хороший, хоть и единственный, костюм, отправлялся к Поповым (так называли дом священника. — Ю. П.), мать, не отрывая глаз, смотрела в окно до тех пор, пока Сергей не скрывался в дверях дома. Она была довольна его внешностью и каждый раз любовалась им, когда он не мог этого заметить» [65] Е. А. Есенина. В Константинове. Альманах «Литературная Рязань», 1957, кн. 2, стр. 312.
. Живя почти все время одна с детьми, Татьяна Федоровна старалась их не баловать, держать в строгости, не любила их ласкать и нежить на людях, и на первый взгляд могло показаться, что она была излишне сдержанна и даже суховата в отношениях с детьми. На самом же деле, замечает сестра Есенина, наша мать «не была строга, хотя никогда и не ласкала нас, как другие матери: не погладит по голове, не поцелует, так как считала это баловством. Когда у меня были уже свои дети, она часто говорила: „Не целуй ребенка, не балуй его. Хочешь поцеловать, так поцелуй, когда он спит“. …Долгие годы она жила одна только с маленькими детьми, и у нее вошло в привычку разговаривать вслух. Это смешило отца, и иногда в шутку он говорил мне: „Пойди послушай, как мать с чертом разговаривает“ [66] Журнал «Молодая гвардия», 1960, N 8, стр. 212, 213.
.
Наделенная от природы недюжинным умом, редкой красотой, чудесным песенным даром, Татьяна Федоровна обладала редким мастерством исполнения русских народных песен. Далеко за околицей родного села шла молва о ней, как о замечательной песеннице. Каких только песен она не знала: и шуточных, и величальных, и игровых, и обрядовых, и полюбовных! „Мне кажется, — говорит Александра Александровна, — что нет такой русской народной песни, которую бы не знала наша мать. …Топила ли она печку, шила, пряла ли, за любой работой можно было услышать ее пение“ [67] Альманах «Литературная Рязань», 1955, кн. 1, стр. 338.
. Даже рассказывая детям сказки, Татьяна Федоровна, как вспоминает Е. А. Есенина, обязательно пела. „Например, сказка об Аленушке. Аленушка так жалобно звала своего братца, что мне становилось не в мочь, и я со слезами просила мать не петь этого места, а просто рассказывать. Мать много рассказывала о святых, и святые тоже у нее пели“ [68] Альманах «Литературная Рязань», 1957, кн. 2, стр. 310.
.
Читать дальше