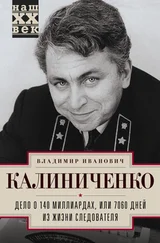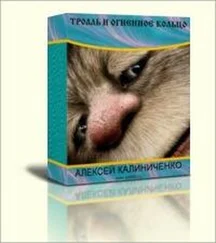Конечно, никто из пациентов не был в восторге от необходимости нянчиться с Виктором. Однако я в отличие от остальных, старался помогать ему. Конечно я не рвался убирать за ним фекалии, но я старался проводить с ним как можно больше времени. Я выпросил у Большакова, чтобы он купил на мои деньги, которых было немного, тетрадей и ручек. – У тебя же свои есть – удивился тот, но просьбу выполнил. Все равно инфляция все сожрала, спасибо Кириенко, слава богу, хоть на две тетради и три ручки хватило. Я начал вести дневник Виктора. Все, что происходило с ним, я тщательно, мелким плотным почерком, записывал в тетрадь. В каждой клеточке, почти без абзацев. Надо быть экономным, если тетрадь кончиться раньше положенного времени, хоть я и не знаю, когда это положенное время настанет, но все равно, если кончиться, писать будет негде, летопись Смирнова В. В. остановиться и тогда как он потом узнает, что с ним было до «обнуления»?. Позже мне пришла в голову идея по упрощению записей, я применил ее и для своего дневника. Все из за тупости и однообразности нашего бытия, все дни одинаковые, я отмечал значками какие то события: торт – день рождения, рядом пишу кого, сколько лет через запятую, в скобках комментарии, если было что то, заслуживающее внимания (его дочка прислала торт, первый раз за год ели торт, это так вкусно), ну и в таком духе. Я строчил этот дневник для него почти полтора года, исписав под ноль две тетради. Однако, к сожалению, только по прошествии такого огромного куска времени, до меня наконец дошла бессмысленность моей писанины. Ведь в своем дневнике я писал про мысли, да черт побери, мысли, а у Вити мыслей то не было! Все его мысли в результате уместились в одном слове. Когда я выйду отсюда, я попрошу, чтобы как только есть возможность, при любом удобном случае, ему должны показывать их. Его ключ, его единственная зацепка, это шахматы. И он должен помнить об этой зацепке, потому что она дает ему что то, как то тянет его к свету, но крючок слишком слаб или леска тонка, ему не вытащить правду из этой чертовой доски. Но все же… Если он очнется после последнего сбоя, и не увидит этого ключа, он даже не будет жить в каком то призрачном открытии чего то важного, он просто будет существовать. Почему же я помогаю ему, что меня двигает разговаривать с этим человеком, точно и внимательно расшифровывать свой дневник, пытаться учить его говорить, показывать ему шахматы, давать их ему в руки, из за чего я стал чуть ли не врагом для части обитателей нашего отделения, у которых вырывал фигурки с целью отдать их на изучение Виктору. Я тянулся к этому человеку одной своей частью при том что вторая конечно была не в восторге от общения с умственно отсталым. Но эта моя сознательная, правильная и тянущаяся часть знала зачем мне это. И я знал, что мой долг поддержать себе подобного, попытаться сохранить его рассудок. Не себе подобного как человека в целом, но себе подобного как человека, чьи переживания и… да что там, так и есть, чьи страдания так знакомы и понятны мне. Ведь я тоже уже давно пережил свой «сбой мозга».
Я не помню, разумеется при каких обстоятельствах он произошёл. Я ведь попал сюда с улицы. Да да, эта самая клиника, это точка моего отчета моего нового времени. Времени «от предыдущего раза до следующего» когда я окажусь в пустоте, как Виктор. Мне очень сложно вспомнить и охаректеризовать то, что происходило со мной в первые месяцы после того, как я очнулся без памяти. В душе я очень вспыльчивый и агрессивный человек, поэтому, часть смутных воспоминаний была о событиях, которые оставили негативный отпечаток в моей памяти. Как меня мыли. Как когда то самом начале одна сука санитарка била меня половой тряпкой по лицу, которой только что вытирала мое дерьмо. Тогда особая беспомощность одолевала меня, она была как будто физически болезненной. Я бы сейчас сравнил себя с детьми, больными ДЦП или инвалидами, которые не могут контролировать свое тело в общепринятой норме, их руки и ноги безвольно весят или болтаются из стороны в сторону на потеху окружающим. Люди любят смотреть на таких радуясь в глубине души – Как хорошо, что у меня хоть со здоровьем ничего, не уродец какой – нибудь. Но под этими взглядами эти бедняги чувствуют себя так неуютно должно быть. Я чувствовал себя неуютно тоже, однако, я не знал в тот момент, что есть дети, болезни и вся мирская дрянь. Я был абсолютно пустым внутри, и не руки не ноги не слушались меня, я не понимал свою оболочку. Этот путь, путь осознания себя был сложнее даже чем путь осознания мира вокруг. Как будто мой мозг вставили в некий мертвый механизм, но нервные окончания не подключили к нужным разъемам целиком, так питание подали и достаточно вроде. В результате я чувствовал, что у меня что то есть (руки?) но я не могу ими ничего сделать, лишь иногда они совершают в поле моего зрения какие то пируэты, но я не могу дать им команду, которая может быть выполнена. Я не мог ни сесть ни встать, когда меня поднимали насильно, организм тут же отдавался тошнотой и рвотой, за что мне очень часто попадало потом и словами и делами. И это просто запомнившиеся образы, потому как я тогда, как и Виктор, не мог думать, я не понимал что я такое вообще. Я был атомом, а может и еще более мелкой частичкой, бозоном Хиггса быть может, которому вдруг показали, что он не просто сам по себе, ничего не думает, один сидит или летит в черноте, а он вообще то часть огромного цветного мира, который называется, к примеру, теннисным мячиком, а когда этот мячик принесли на корт, каково же его потрясение от увиденного, а когда этот мячик случайно улетел за пределы этого корта… Боюсь подумать, чтобы было в голове этого бозона при осознании масштабов мира, в котором он оказался. Конечно, мне было в некотором смысле проще, я «рос заново» в очень маленьких замкнутых мирках и мое осознание размеров мира начиналось с – А ты знаешь, какие у нас есть большие моря, где так много воды. – А я спрашивал – А что такое море? – и поражался тому, что слышали мои уши. Что было бы со мной, если бы меня привезли бы на машине и выбросили на песчаные дюны у кромки прилива? Сердечный приступ, как пить дать.
Читать дальше