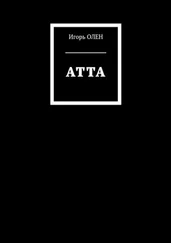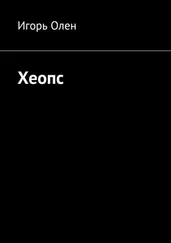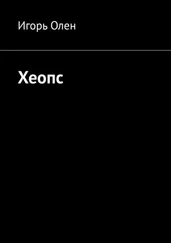Дед в ту ночь умер, ей повторяя: – Веруй с надеждой… Бог, Он всё выправит…
Обронилось письмо. Прочла она, схоронив тело тут же, близ тихо рухнувшего столпа, такое:
«О, мне хватило не отказаться сразу в роддоме и пять лет видеть, как разбивается мне привычная жизнь, лишая меня любимого и любимой профессии, а взамен не приходит даже и блика, искры приязни к жуткому чаду. Только и делала, что кусала мне грудь и портила мне работу. Я как художница не могла видеть рядом неэстетичное, злое нечто и идиотство этого нечто. Грех мой велик, велик… Серафим же Федотович! Мне что, взять её и мучительно с ней погибнуть?! Я с ней с ума сойду, а потом и повешусь, что навредит ей тысячекратно. А вот про вас я слышала; ей при вас будет лучше… Небо свидетель: я каждый день молюсь… Дай вам Бог жизни долгой, светлой, духовной! Если случится всё же без вас ей быть, ей безумие станет родом спасения. Будьте с миром!
Грешная пóслушница Берсенева».
Дана плакала и стенала, не понимая, чтó с ней творится.
Бог ей менял состав, учиняя особенный, избавлял её от адамовых падших действий и помыслов, искажающих истинность. Как недаром « Христос бысть плоть », так теперь в её теле слаб закон истребления Божьего, что слагало рай. В ней кончался вообще закон; в ней хирел процесс, изводящий жизнь в смыслы; в ней первородный блудный набег идей и лексем смирялся. И, как Христос, быв « словом », крестно распял его, так и в Дане, в коей великая похоть разума зачинала плоды свои, – в Дане разум распят был Божьим волением не ввиду патологии, что она слабоумная, – нет, в самой её сущности, в мозге мозга костей, в фундаменте, в квинтэссенции, в корне, в базисе пресеклась она быть греховною, так что атомы, что сходились в ней в падших ракурсах, вдруг замедлились и назад пошли на эдемские статусы! Как стоял её дед досель на столпе своём голой праведной верой, всячески битой гордой историей, – так она восставала вдруг на историю. Бог снимал с неё родовое проклятие жаждать хлеб или воду. Он её Сам кормил, согревал и берёг, являя ей, что суд гордого и учёного разума есть не Бог отнюдь. Ибо Бог выше мер и логики, постулатов и форм, также сил и начал с престолами. Ибо Он шире разума, мнений, смыслов и слов людских, а в придачу и хлеба. Бог есть ни цифра, ни строй, ни норма, ни нуль, ни равенство. Бог никак не слуга законов, кои творят « сей мир » математикой, ображающей Жизнь в невольницу. Бог не смерть и не жизнь; Он не есть даже Истина. Он ничто в существующем, всё – в ничто. Он постижен в незнании и в нечувствии; Он не в ясности, но в предельной неясности. Он открыт не искавшим, ведом не знавшим.
Коротко, Дана стала у-Богой, можущей жить в затмении, что другим – нестерпимейший свет. Бог спрашивал: « Кто со Мной? » – и увидел верное сердце.
Дану искали, как вифлеемских древних младенцев. С первым морозцем были врачебная с полицейской группы. Дану выкрикивали в Щепотьево, состоявшего из избы под инеем.
Но она их не слышала, устремлённая вниз по Лохне, или Фисону, в вечный эдем… Конвульсии первородных грехов свалили её в разлоге; там Дана мучилась, чтоб нестись после к станции, сесть на поезд и, плача, что едет «к маме», быть под Калугу, к женской обители, где её не желали знать; а потом, в слезах, мчать в Москву и, бродя там неделями, оказаться в конце концов под ночным дождём возле здания, за каким текли Ленинградским шоссе под фарами реки трафиков в эру дерзостных жриц любви, гуляющих по обочинам в сексуальной хайповости. Дану кликнули.
– Отхомячилась? – бормотнула высокая, с накладными ресницами и ногтями дамочка.
Дана молча стояла, не понимая.
Дамочка, к ней приблизившись, отвела свой зонт и спросила: – Ты мокрощель, смотрю?
– Мокрощель я, – вторила Дана. Странность её прикрывали сумрак и дождь.
– Впервые?
Дана молчала.
– Возраст… лет сорок?
– Да.
– И есть презы?
– Да.
– Покажи мне.
Дана явила обе ладони.
Дамочка прыснула. – Этим вату катать, дурища. Шла бы ты к маме.
– К маме не надо. Мама не хочет.
Дамочка мыслила вслух раздумчиво: – Всё равно ведь начнёшь когда… Ты, скажу, не ахти собой, но таких тоже любят… – Пальцами отвела она Дане мокрую прядь со лба и дала ей большую с хрустами пачку. – Ладно, айда со мной. Нас имели, имеют, будут всегда иметь! – Она прыснула и пошла вперёд… При огнях шоссе она в Дану всмотрелась, но было поздно: чёрный сверкающий лимузин подплыл; из задней двери послышалось:
– Girl, приблизься!
Дану привлёк к себе суетливый и лет под сорок, с пейсами из-под шляпы чёрного цвета, маленький человечек; взглядами Дана встретилась с пассажиром вторым, огромным, коротко стриженным и седым, как лунь. Круглый маленький суетливый тип задирал ей куртку.
Читать дальше