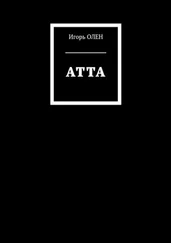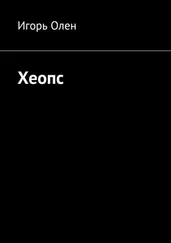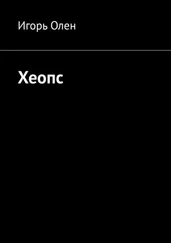Дана не ела и не спала теперь. Если дед не молился, Дана присаживалась к столпу его, чтобы слушать, что он расскажет.
– Думаешь, испокон так было? – раз тёплым вечером завздыхал дед, кончив с ней библию на «Второй книге Ездры», слез с трудом с колеса на столпе своём и повёл её мимо грустных, сплошь забурьяневших, в ряд, руин по заросшей дороге. – Было тут, внука, прежде Щепотьево; и сыздетства оно во мне. Ой, и доброе было это село у нас! Тут, направо, Сигай жил, тощий-претощий, а раз под лошадь встал – и понёс её; он мешок пятиведерный от земли на чердак швырял. Тут, где клён, тут жила раскрасавица, к ней ходили из города; тьма парней толклась! с Тулы сам секретарь был; девка твердит ему, чтоб венчался с ней в церкви, и, хоть за то под расстрел шли, он согласился. А через год она наезжала с другим с Москвы и старушкой скончалась. Смерть красу не должна губить, думаю… Внука, тут… – Дед отвёл ветку вишни, ткнул на кирпич в траве. – Тут наш Собственно Барин жил; он на деле байстрюк был, тоись внебрачный, но сильной гордости; сам пастух, а кто кликнет простецки, он тому: «Я вам, собственно, ни вот столько не Митрич, я вам не ровня»; так и был прозванный. Комиссары приехали: «Ты ли будешь Чадаев?» – «Собственно, буду я Чаадаев, – он отвечает, – званья дворянского». Чаадаев и вправду был, но не он, а отец его, дворянин. Чадаево, что за храмом, с нашим Щепотьево и другими селищами – все его при царе считалися; предводитель дворянский был Чаадаев! Собственно Барина и к стене, врага, – пролетарская революция! – но, выходит, за гордость; был байстрюком он… – Дед повздыхал чуть-чуть. – Нет Чадаева. От Чадаева чад один, от Щепотьева нынче только щепотка; сгинули сёлы-то… – Дед опять пошёл и держал Дану зá руку, говоря: – Под вязом, – глянь, там повыше, – прежде бандит жил, после войны жил; выйдет на тракт и грабит; знали про это, но откупался, вот как теперь в стране, но не доллары, а пришлёт самогонки, мёдику, яйца, кур, поросёночка. Был смельчак один, заявился в милицию, что такой, мол, на Сталина на товарища матом, – это придумал он на бандита, чтоб засадить того, а ему: напиши всё; он написал как есть, но милиция: «Почерк твой, наймит буржуáзии? На-ка срок тебе за товарища Сталина, что его ты охаивал!» Слёг бандит сам собой, лишь в конце признал, что убийцей был; Бога чувствовал. Тут… – дед хлопнул по липе подле других руин. – Немцы к нам не дошли в войну вёрст на пять, но снаряд прилетел сюда и убил ребятёнков… Там, – дед махнул рукой. – Внука! Там вон, кого я любил, жила; а теперь там развалины… – Он, ссутулившись, смолк вздохнув.
В мае прибыли из района власти; деду с оркестром дали медаль, шумя: «Обрели героя!» Он, не слезая с шаткого неустойчивого столпа, держал звезду в кулаке и плакал. Дали и премию: продуктовый набор да водку, – и бабка Марья вечером испекла пирог, напилась, после мигом всё съела, горько стеная: «Вымру, как будете?»
Славный факт отразили в прессе, при фотографии, где старик при медали на колесе стоит. Наезжать стали с Флавска (это райцентр их), с Тулы, с Рязани, – даже с Москвы для фото! – спрашивать о судьбе и истине. Дед твердил, его рок – «на столпе стоять», участь мира – «закончиться», ну, а истина значит «Бог Живой».
– Что, бог может быть мёртвым? – спрашивали насмешливо.
Дед молчал.
На «УАЗике» приплывал бездорожьем «батечка Глеб», – звала его бабка Марья. Он в рясоносной тучной телесности говорил о житье-бытье, о погоде, о власти денег и завершал визит рассуждением о «таких-сяких», кои ищут спасения, но притом «громоздят соблазны».
– В подвиге каждом внутренний строй в цене. Христианин – чин внутренний, – повторял он из «óтцев» (Марка Пустынника). – Только внутренний подвиг, подвиг духовный, а не наружный, вот что потребно! Подвиг ума. И мысли. Ты же – в соблазн стоишь, во прельщение.
– Грех есть именно от ума и мысли, – дед отвечал ему, – не в упрёк тебе, отче Глебушка.
– В общем – истина, Серафиме! Истина лишь в соборном!
– В общем-соборном я на войне был; после был в лагере, в Магадане… Истина в частном, – столпник вздыхал.
И спорили… «Отче», сидя в «УАЗике» на бурьянистом, слякотном предосеннем лугу в дожде, под трухлявым столпом со столпником, выпивал, твердя:
– Серафиме, раб Божий! Ты хоть герой войны, только истина человекообразна. Что в человеке – это и в истине. Так что зря на столбе торчишь. Будь послушливей – станешь истинней! Ибо истина кротка, благоприлична, смиренномудра!
Столб покосился перед двухтысячным (окрестили «миллениум»). Затяжная весна была! В майский снег, побеливший сад, занедуживший дед, отыскав лист с ручкой, что-то писал, шепча, три часа и велел отнести письмо на почтамт во Флавск.
Читать дальше