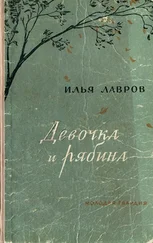Бабки говорили, что надо бы привезти священника, но тут же и добавляли:
— Да где же его взять.
Даже в районном центре не было ни одной церквушки, все было сметено, а восстанавливали пока только в столицах. В соседнем районе — да, была одна. Туда и ездили, кто на чем мог. Да и то только в последнее время. Привыкли обходиться без церкви. Привыкли обращаться к Тебе, Господи, напрямую, без посредников. И верили, свято, наивно верили, что это не помешает попасть в царствие Твое.
Перед самым концом Евдокия Тимофеевна вдруг очнулась. Сейчас я даже думаю, что и не без помощи Твоей, Господи. Я был рядом. Она узнала меня, зашептала:
— Сынок, там за иконкой деньги на похороны. Там много, на поминки хватит. Помяните меня, как следует. Платье, платок — в шкафу. Туфли белые. Свечки. Все там припасёно. А ты, сынок, живи здесь. Что ж я, дура старая, завещание-то… Сноха может заерепениться… Куда ей дом-то. Ты живи, живи, а я буду тебя оберегать… как и прежде…
Будто только для этих слов и очнулась: сказала и опять — в забытье.
Той же ночью она умерла. Я проснулся от тишины. Вечером разыгралась вьюга, ветер рвался в окно. А тут — удивительная тишина. Глянул в окно, а там медленно, не спеша, падает снег. И вдруг я понял, чего не хватало — прерывистого сиплого дыхания Евдокии Тимофеевны. Она уже освободилась от старой, тесной для души оболочки. Отмучилась.
Еще один дорогой моему сердцу человек был погублен мной. Да, Господи, мной. Да, это я погубил Евдокию Тимофеевну, ворвавшись в ее жизнь. Я лишил ее единственной соломинки, за которую она хваталась — дела, не дававшего ей зачахнуть. Я невольно внушил ей, что есть такой человек, который позаботится о ее старости, вникнет в ее слабости, сделает за нее то, что по неумолимым законам жизни (опять Чарльз Дарвин! А я уже начал о нем забывать!) она должна была сделать сама. Я лишил ее дела, работы, возможности ухаживать за мной, а вместо этого сам стал оберегать ее. И погубил!
Я ходил из угла в угол, пораженный страшным открытием. «Значит, — думал я, — у меня нет никакого права связывать свою жизнь хоть с кем-нибудь — погублю». И тут я остановился: «Кроме одного человека».
Я размышлял, пока не увидел в окно, что среди тьмы загорелся свет у Ленки. Значит, наступило утро. Я достал из-за иконки белую тряпочку, в которую были бережно завернуты деньги. Так я и думал. Блажен тот, кто прожил на свете и не узнал, что такое инфляция. Я завернул оставшиеся у меня доллары в эту белую тряпочку и положил на место.
И тут я встретился с Тобой глазами. Ты смотрел на меня сквозь стекло, закрывающее икону, чинно и беспристрастно. Ты — кумир. Я — изгой. Какое право Ты имеешь на жизни людей? По какому праву Ты гонишь меня отовсюду, оставляя вокруг пустынное место смертей? Взглянув на Твой отрешенный лик, тут только я начал кое-что понимать.
Ленка собралась уходить в коровник. Мать ее уже ушла. Ленка восприняла случившееся легче, чем я. Смерть на селе, где большинство — старики, частое явление.
— Отмучилась, — только и сказала она, посмотрела на икону, но не перекрестилась. Только, когда я, передав последнюю просьбу Евдокии Тимофеевны о похоронах, сказал, что уезжаю — сейчас, срочно — в ее глазах появилось беспокойство.
— Может, останешься? — нерешительно спросила она и села на скамейку.
«Эх, Ленка, ты мне нравишься больше не такой, а веселой, бойкой, кружащейся со мной в русской плясовой. Оставайся лучше такой, Ленка. Не хватает еще твою жизнь погубить», — подумал я. А в слух произнес — и откуда только взялась твердость — короткое слово:
— Нет.
Я выехал на заледенелое шоссе с одной лишь целью: резко свернуть влево перед каким-нибудь встречным трейлером, и чтоб сразу — насмерть. Но вот проехал один грузовик, потом второй, третий, а повернуть руль у меня не хватало решительности. А Ты, Господи, я теперь понял это, насмехался надо мной, посылая мне все новые и новые гигантские машины — знал, что я не смогу.
Если и можно было чем-то оправдать мою жажду жизни, то только одним: был еще один человек, которого я оставил — косвенно, конечно — в одиночестве, который слаб и немощен, которому требовалась моя помощь. Ради этого стоило жить. «Я спасу его и этим сам обрету спасение», — подумал я и вернулся в город.
Так я снова начал странствие по жизни. Так вечно в пути и Агасфер, внук Божий.
Заманихин летел, расправив крылья. Так ему и самому казалось: широко расставленные руки на руле, рукава трепыхаются, хлопают, ветер бьет в лицо; таково было и состояние его души. Сосредоточиться, мыслить он сейчас не мог, а надо бы было. Он просто радовался, так же, как тогда, когда закончил своего «Мертвого фотографа». И мысли у него сейчас были сумбурные, легкие.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу