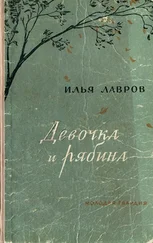— Вы ей кто? — спросила она у Ленки.
— Никто… соседка.
Доктор сразу от нее отвернулась и обратилась ко мне:
— А вы?
— Я? Жилец…
— Ясно, — выговорила она медным голосом. — Где же вы раньше были?
— В каком смысле?
— Ах да, вы же сами тут валялись… В общем, если на чистоту, дела плохи. Долечились, черт побери, всякими примочками. Раньше надо было врача вызывать. Впрочем, вряд ли что-нибудь изменилось бы.
— Что случилось?
— «Что-что»! Гангрена! Лопнул тромб, и уже довольно-таки давно. Надо бы резать ногу и, боюсь, уже под самый корень. Но и резать-то нельзя, вот в чем вся штука. Возраст! Сердце слабое. Шансы есть. Но, во-первых, вряд ли кто из наших хирургов возьмется — кому охота, чтобы пациентка под ножом умерла. Во-вторых, перевозка практически невозможна — растрясем. В-третьих, она сама не хочет. Я попробовала уговорить — нет, и все. Ну ладно, будет приезжать медицинская сестра через день, колоть обезболивающее. Это все, что мы можем, — с этими словами она направилась к машине и на ходу мне бросила: — А вы ищите себе новое жилье…
Кто же это так верно подметил, что все врачи циничны. Но в тот момент я еще не осознал до конца все сказанные ею слова.
— Доктор, но ведь она еще вчера бегала…
— Вот и добегалась, — пробормотала она, думая, что я не услышу — она уже садилась в машину.
Так Евдокия Тимофеевна больше и не встала. Я не отходил от нее, ловя те недолгие моменты, когда она возвращалась из забытья. Тут я насильно кормил ее бульоном, поил чаем, а она все повторяла: «Крему, крему…» Я долго не мог понять, что это за «крему» такое, пока одна из старушек, ее подружек, приходивших по-прежнему навестить хозяйку, не подсказала:
— Это у нас в магазин один раз такое завозили. Помню, купили все по баночке, а Тимофеихе особенно пондравилось.
— Что же «это»?
— Да крем, крем шикладный. Вот она, сердешная, и просит его теперича.
Поехал в район за «кремом» — так бедная Евдокия Тимофеевна называла орехово-шоколадную пасту. Нашел-таки с трудом. Вернулся. Все старушки сбежались посмотреть, завидев, как моя машина трясется по деревенским колдобинам.
— Ой, он! Его ты, родимый, привез, — обрадовались они, глядя на банки, которые я им показал, и все как одна разрыдались.
Евдокия Тимофеевна очнулась, и ей дали чайную ложечку «крема». Она с жадностью обхватила ее слабыми губами и сняла эту густую массу с ложки, сколько смогла, чуточку, почти ничего, только то, что было горкой, а во внутренности ложки паста осталась. Стала сосать между деснами и ввалившимися щеками. И, глядя, как она блаженно закрыла глаза, догадался я, наконец. Она всю свою долгую жизнь отказывала себе: все только для мужа, только для сыновей и даже только, может быть, для колхоза, но никогда — для себя. И вот теперь перед самой своей смертью, когда она, смерть, уже стала неотвратима, Евдокия Тимофеевна попросила и для себя то, что показалось ей чудом — баночку импортной орехово-шоколадной пасты.
Как и обещала доктор, через день приезжала медсестра и колола обезболивающее. Сама она была родом из Залупаевки, и прекрасно знала хозяйку.
— Ну что, Тимофеевна, мучаешься? — входя в горницу, говорила она обычно, даже, когда старушка была в забытьи. — Потерпи, потерпи, сейчас полегчает, — делала укол, а потом, глядя, как от наркотика разглаживаются черты на лице больной, беседовала со мной. От нее, неграмотной, в сущности, женщины с семилетним образованием я услышал впервые об эвтаназии. Не это ли был лучший выход для Евдокии Тимофеевны. Не лучше ли, чем мучаться от боли и сесть на иглу. Но тут законы Твои, Господи, вступали в силу. Ты считал, что нужно не жизнью праведной, а мучением доказать любовь к Тебе. Мучайся, человек, и откроется тебе царствие Господне!
Все реже Евдокия Тимофеевна выплывала из беспамятства. И все труднее ей было выносить боль в твердой памяти. Теперь она уже и «крема» не просила, только — медсестру. В ее сознании отложилось: с приходом медсестры будет легче. Ее тело высохло и уменьшилось в размерах, превратившись в тельце худенького ребенка лет семи. Перенося ее с кровати на диван, чтобы поменять или поправить простыни, я совершенно не ощущал ее веса. Она испарялась, она исчезала. Гангренная нога ее до самого колена была похожа на черную обуглившуюся головешку, острую в том месте, где когда-то был большой палец. Лицо — череп, обтянутый землистой морщинистой кожей, рот — темная безгубая дыра, руки — дрожащие сухие ветки погибающего дерева.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу