Когда вся бумага сгорела, я разбиваю стаканы и тарелки, и лампу. Я вырываю по одной странице из каждой книги – Босуэлл и «Тайна Стербриджа», Библия и «Шампиньоны обыкновенные», и «Строительство бревенчатого дома» – жечь все слова было бы слишком долго. Все, что нельзя сломать – сковороду, эмалированный таз, ложки и вилки, – я бросаю на пол. Затем я беру большой нож и кромсаю белье, простыни и покрывала, и палатки, и под конец свою одежду и серую куртку мамы, отцовскую серую шляпу, плащи: эта шелуха мне больше ни к чему, я ее упраздняю, мне нужно расчистить место.
Когда я разделываюсь со всеми вещами и огонь почти прогорает, я выхожу из дома, взяв с собой одно из пострадавших одеял – мне оно понадобится, пока не вырастет шерсть. Дом закрывается за мной, тихо щелкнув.
Я разуваюсь и спускаюсь к берегу; земля влажная, холодная, рябая от дождя. Сваливаю одеяло на камень, захожу в воду и ложусь. Промокнув насквозь, снимаю одежду, сдираю, словно старые обои. Мокрые тряпки валяются сплющенные, в рукавах пузыри воздуха.
Ложусь на спину, голова на камне, невинная, как планктон; волосы извиваются в воде, текут. Земля вращается, удерживая мое тело, словно луну; в небе маячит солнце, испуская лучи красного пламени, отжигая от меня все лишнее, высушивая дождь, пропитавший меня, согревая яйцо в моей крови. Я опускаю голову под воду, промываю глаза.
У берега гагара; нагибает голову, поднимает и кричит. Она меня видит, но ей все равно, я для нее часть ландшафта.
Омывшись, я выхожу из озера, оставив свое фальшивое тело, тканую обманку, плавать в воде; оно покачивается на волнах, расходящихся от меня, мягко липнет к мосткам.
Одежду оставляли в знак подношения раньше; одежда – это условность, а боги требовательны в абсолютной степени, они хотят все.
Солнце прошло три четверти пути, я проголодалась. Еда в хижине под запретом, мне нельзя возвращаться в эту клетку, в деревянный ящик. Также под запретом консервы и банки; они из стекла и металла. Я направляюсь в огород и рыскаю вдоль грядок, потом сажусь на корточки, завернувшись в одеяло. Ем зеленый горох прямо из стручков и сырые желтые бобы, вытаскиваю из земли морковь, надо вымыть ее в озере. В зарослях сорняков и усов мне попадается поздняя клубничина. Красная пища, цвета сердца, такая лучше всего, она священна; потом идет желтая, потом голубая; зеленая пища смешана из голубой и желтой. Я выдергиваю свеклу, счищаю грязь и вгрызаюсь, но кожура грубая, я еще не настолько окрепла.
На закате я поглощаю вымытую морковь, лежавшую в траве, где я припрятала ее, и немного капусты. Нужник под запретом, так что я валю прямо на землю и присыпаю кучку. Так делают все норные звери.
Я устраиваю логово у поленницы, на палой листве, укрыв его стеной из сухих веток, переложенных поверху хвойными лапами. Заползаю туда и сворачиваюсь клубком, натянув на голову одеяло. Комары кусают сквозь ткань, но лучше их не бить – на кровь слетаются другие. Я сплю урывками, как кошка, живот болит. Кругом что-то шуршит; сова ухает, на том берегу или во мне, расстояния размыты. Легкий ветер, озеро что-то шепчет, многоязыкая вода.
Я просыпаюсь от света, мерцающего сквозь ветки. Кости ноют, голод разгулялся, живот словно бассейн, в котором плавает акула. Жарко, солнце почти в зените, я проспала почти все утро. Выползаю и бегу в огород за едой.
Калитка меня не пускает. Вчера было можно, сегодня уже нет: они действуют методично. Я прислоняюсь к забору, ноги влипают в землю, напитанную дождем, росой, озерной влагой, сочащейся из-под земли. Живот сводит, я отхожу в сторону и ложусь в высокую траву. Там лягушка, леопардовая, в зеленую крапинку, с золотистыми глазами, пращур. Я вижу себя в ней, блестящей, неподвижной, только горло трепещет.
Лежу на земле, ладони под головой, пытаюсь забыть голод, глядя в огород сквозь шестигранную сетку: ряды, квадраты, колышки, подпорки. Растения блаженствуют, растут как на дрожжах, всасывая влагу корнями, вверх по плотным стеблям, потея листьями, наливаясь под солнцем ядовито-зеленым – что сорняки, что культурные растения, без разницы. Под землей вьются черви, розовые вены.
Забор непреодолим; сквозь него не проникает ничего, кроме семян сорняков, птиц, насекомых и погоды. Под ним канава, глубиной два фута, выложенная битым стеклом, осколками банок и бутылок и присыпанная гравием и землей, под него не подлезут ни сурки, ни скунсы. Только лягушки и змеи пробираются, но им можно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Маргарет Этвуд Пробуждение [litres] обложка книги](/books/391378/margaret-etvud-probuzhdenie-litres-cover.webp)




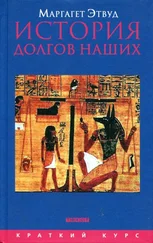
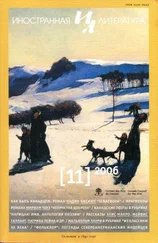
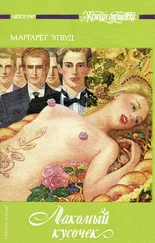

![Маргарет Этвуд - Лакомый кусочек [litres]](/books/384342/margaret-etvud-lakomyj-kusochek-litres-thumb.webp)
![Маргарет Этвуд - Год потопа [litres]](/books/421019/margaret-etvud-god-potopa-litres-thumb.webp)
![Маргарет Этвуд - Пенелопиада [litres]](/books/429485/margaret-etvud-penelopiada-litres-thumb.webp)
